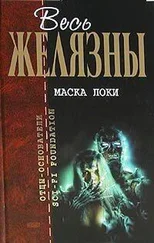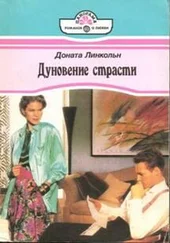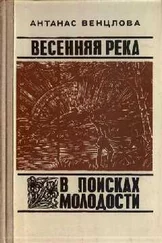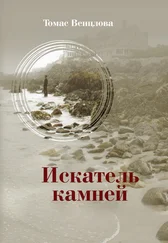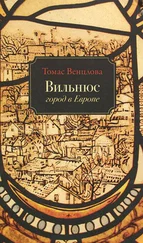В разделе «Щит Ахиллеса» почти все стихи пронизаны предчувствием неизбежной беды: «На меня указует несчастье, как стрелка магнита, / Да, как стрелка магнита, несчастье притянуто мной» [222]. В «прекрасней[шем] город[е] Европы» «Смерть, принятая некогда в семью, / В квартире потеснила человека», а с ней «Смириться человеку невозможно» [223]. Строчки «Все, что уйдет в песок с теченьем лет, – / К лицу прижалось. Ангел не поет» [224](в литовском подлиннике: «И ангела у изголовья нет») – не только о хрупкости жизни, но и об одиночестве человека, которого оставили даже вышние силы, по христианской традиции всегда его охранявшие. Смерти, как и любой другой форме энтропии, Томас противопоставляет искусство. Эти темы сквозят во всем его творчестве, но в «Щите Ахиллеса» они звучат особенно сильно.
В разделе «Щит Ахиллеса» – 18 стихотворений, в которых ясно прослеживается связь с Бродским. Это свидетельствует о взаимосвязи между поэтами. Судьба друга была очень важна для Томаса, эта дружба поддерживала его в тяжелое время. В стихах «Повтор с вариациями» слышится ритм «Пенья без музыки» Бродского. Эпиграф к стихам «Колодец крут, но в черноте его…» – «Напиши стихи о разговоре с птицами» – цитата из письма Иосифа Томасу. В этом письме (по почтовому штемпелю его можно датировать 12 июня 1973 года), помимо прочего, Бродский пишет, что он пытается сочинить «стишок» про Ассизи. Письмо заканчивается постскриптумом: «Напиши стишок, как Св. Франциск разговаривает с птичками. Я не могу» [225]. Это, по-видимому, редкий случай, когда Бродский пытался передать другому поэту свой нереализованный замысел. Стихи Венцловы получились не о Франциске Ассизском, а о родстве всего на земле, о связи со всевышним. В его поэзии эти стихи выделяются своим взглядом sub specie aeternitatis. Конкретное историческое время, столь щедро обдававшее ледяным холодом в других стихах, как бы отошло в сторону. С точки зрения вечности все равно – «Созвездье, человек, тростник и птица», «Их свет един – по-разному вольна / Его ломать зияющая призма». [226]
Появляется в стихах Томаса и сам Бродский; правда, для того чтобы его узнать, необходим комментарий автора. Две последние строфы «Вновь пора расставаться с друзьями в ночных городках…» звучат так:
Коль судьба поколения – сгинуть в забеге грядущем,
Да не будет нуждаться тот первый из нас, кто уйдет,
В своем хлебе и соли насущных, в судьбе ненасущной,
И в воде ненасущной Твоей от небесных щедрот.
Совершенный, прервавшийся голос – невзгод и свободы
Провозвестник, не знающий лжи – да отыщет меня.
Так черны и сладимы должны быть на Немане воды,
Чтоб до дельты плыла, испаряясь, в ущербе луна. [227]
Долгое время слова «тот первый из нас, кто уйдет» прочитывались как слова о некоем символическом представителе поколения поэта. Для понимания стихотворения этого вполне достаточно. Парафраза строчек из стихов Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» («Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, / Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда» [228]), соединенная с отсылкой к стихам литовского поэта-эмигранта Бернардаса Бразджениса Ženklų psalmė («Ir sielininkai Nemunu lig deltos nudainuos, / Ir bus labiau už delčią liūdna ir sutemę» [229]) [230], как бы связывает поколение автора с поколением Мандельштама и Бразджениса, восстанавливает оборванные нити настоящей поэзии. Уже после смерти Бродского Венцлова рассказал, что «первый из нас, кто уйдет», – это Иосиф (хотя, может быть, автор стихов имел в виду не только его), но пока друг был жив, говорить об этом Томас не хотел, чтобы не напророчить в стихах трагедии. Венцлова поясняет: «Харизму Бродского, часть его ореола, кроме всего прочего, создавало и то, что, глядя ему в лицо, ты чувствовал: этому человеку, наверное, не суждена долгая жизнь» [231]. Так (если иметь в виду комментарий), Бродский в стихах – лучший поэт поколения, чей голос «совершенен». Этот взгляд совпадал с «мифом о Бродском – поэте Милостью Божьей», который «был распространен в возвышенно романтических письмах самиздатовских авторов, в их посвящениях, заметках и эссе». [232]
У Венцловы этот миф ярче всего выражен в стихах «Щит Ахиллеса», которые дали название всему разделу. Название это – ссылка на одноименное стихотворение Уистена Хью Одена. Этого поэта очень любили и Иосиф, и Томас, они часто о нем говорили. Кстати, когда Иосиф покидал СССР, Томас вручил ему бутылку крепкой литовской настойки, чтобы распить при встрече с Оденом, что и было сделано. В стихах Одена жестокая современная жизнь отражается в щите, выкованном Гефестом. Такое трагическое восприятие жизни свойственно и Венцлове, но в его стихах щит – это белый лист бумаги, которым поэт отгораживается от небытия, противостоит ему. Примерно через пять лет (в 1977-м) он повторит ту же мысль в прозе: «История – это не только безличная сила; в конце концов мы сами ее делаем. Поэзия здесь напоминает щит Ахиллеса. Это предмет среди предметов – и, наверное, самый прекрасный из них. Он по-своему отражает мир и освещает его своим сиянием. А вместе с тем это и щит. Слава Богу, не меч, не пулемет, не танк. Но все-таки – щит». [233]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
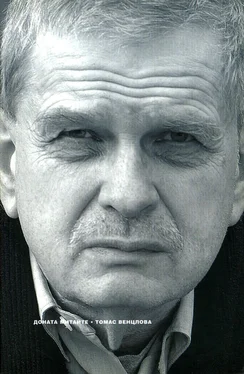


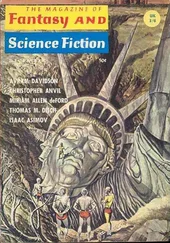
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)