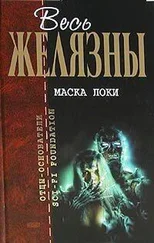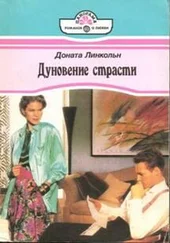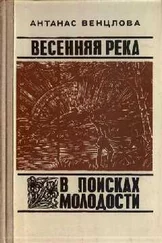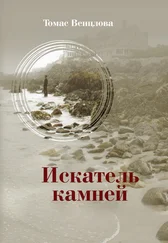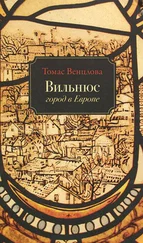Члены Хельсинкской группы фиксировали нарушения прав человека в Литве (свободы совести, права народов на самоопределение, прав политзаключенных и инакомыслящих) и передавали информацию об этом на Запад. Первую конференцию для западных журналистов провели в Москве, в квартире известного диссидента Юрия Орлова (в начале декабря 1976 года). Когда Томас вернулся в Вильнюс, его вызвали в Министерство внутренних дел и сообщили, что дают ему месяц на обсуждение отъезда в семье и сбор документов (предложили воспользоваться приглашением из Беркли, на которое до сих пор никто не обращал внимания). Сохранился документ, подписанный 2 января 1977 года начальником КГБ Юрием Андроповым и генеральным прокурором СССР Романом Руденко, в котором предписано, как надо расправиться с членами Хельсинкских групп: Александра Гинзбурга и Николая Руденко – арестовать, Юрия Орлова пока что не арестовывать, но привлечь к уголовной ответственности, а Томасу Венцлове, который «подал заявление на временную поездку по частному приглашению в США, разрешить эту поездку. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет решаться в зависимости от его поведения за границей» [193]. Этот документ показывает, что судьба Венцловы решалась совсем не в Вильнюсе.
Театральный режиссер Наташа Огай, которая в то время была женой Томаса, отказалась уехать. Это означало, что семья распадается – в Литве он оставляет всех самых близких людей: мать, жену и маленькую дочку. По законам Советского Союза такое расставание могло быть окончательным, поскольку документы надо было готовить на отъезд, а не на временное пребывание за границей. Осознавая, что, хотя паспорт ему выдан на пять лет, «поездка в те края может затянуться – надеюсь, не до самой моей смерти» [194], Томас пытается наладить будущее общение с друзьями, остающимися в СССР. Так, он предлагает Михаилу Юрьевичу Лотману (сыну Юрия Лотмана) обмениваться книгами: Томас хотел получать издания по семиотике и схожим предметам. 24 января он шлет Лотману открытку из Москвы: «Вылетаю скорее всего завтра» [195]. Кроме того, он сообщает адрес литовского литературоведа, о котором спрашивал Лотман. Вроде бы это повседневные мелочи, но они немного дают передохнуть, ведь последние дни полны прощаний и напряжения. На проводы в Москву приезжают мать, жена, Рамунас Катилюс и Гитана Садовникова, приятельница Томаса и Рамунаса, когда-то проживавшая в Вильнюсе, а в то время уже в Ленинграде. Перед отъездом Томас и сам съездил в Ленинград проститься с родителями Бродского и узнать побольше новостей, чтобы рассказать Иосифу. В Москве он просит отвести его к Надежде Яковлевне Мандельштам, с которой хочет попрощаться. С ней Венцлову несколько лет назад познакомила Людмила Сергеева. Они понравились друг другу, и однажды на слова Томаса о том, как ему с ней интересно, Надежда Яковлевна ответила ему: «Томас, не говорите мне этих слов, я и так уже буду думать, что вы моя последняя любовь» [196]. Все понимали, что, хотя виза у Томаса временная, уезжает он навсегда.
Венцлова улетел из московского аэропорта Шереметьево 25 января 1977 года, билет у него был до Вашингтона, с короткой пересадкой в Париже. Еще у него был советский паспорт с временной выездной визой, два чемодана с книгами, два – с одеждой и 500 долларов (столько давали вывезти каждому, отъезжающему на время). Рассветало морозное зимнее утро. Чемоданы с книгами были очень тяжелыми. Томас уже попрощался с мамой, но вернулся с каким-то незнакомым мужчиной и попросил советских денег, чтобы заплатить за перевес багажа. Мама хотела еще раз обнять сына, поцеловать, но «спутник» не разрешил [197]. Наверное, повторное прощание не было санкционировано инструкциями, полученными «стражей».
Пройдя сквозь холод таможни, сквозь строй настороженной
стражи,
Вскарабкавшись по ступенькам в скудный валютный эдем,
Вспомнил, что не помахал рукою тем, кто остался.
Еще до отлета они уже превратились в тени,
Голос на дне телефона, адрес в забытой книжке —
Времени нашего, может, единственное чудо.
Я знал: голоса рассыплются, слова обернутся прахом,
В полумрак фотографий отступят знакомые лица,
Пока, наконец, их не вытеснят книжные полки и лампа. [198]
Это поздняя (1985 год) поэтическая рефлексия об этом прощании. «Кресты самолетов», как сказано далее в стихотворении, перечеркнули не только «страну неродную», но и всю прошедшую жизнь. Даже те люди, чья жизнь в Советском Союзе была невыносимой, с трудом переживали начало эмиграции. Казалось, что с родиной и родными прощаешься навсегда, что между тобой и остающимися опускается тяжелый и плотный железный занавес. Эту ситуацию, пережитую многими, хорошо передают горькие и язвительные слова Марии Розановой, которые она сказала друзьям, пришедшим на Белорусский вокзал провожать их с Андреем Синявским: «Ну, братцы, все это очень похоже на крематорий. Вы пришли, стоите с цветочками, а мы – те, которых опускают» [199]. Об этом, общем для всех чувстве Томас Венцлова пишет после года эмиграции: «Нам придется свыкнуться с этой второй жизнью на Западе. Мы встречаемся с людьми, которых увидеть на этом свете и не надеялись, а со старыми знакомыми мы разлучены более или менее навсегда. Связи с ними несколько отдают спиритизмом» [200]. По законам советской империи уехавшие должны были исчезнуть, их книги убирались из библиотек, запрещалось упоминать их фамилии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
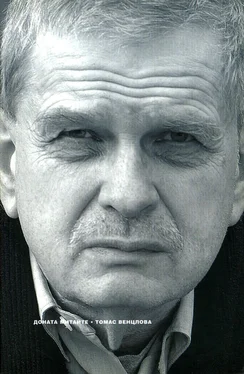


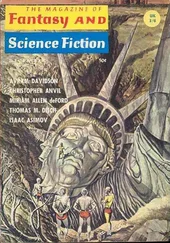
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)