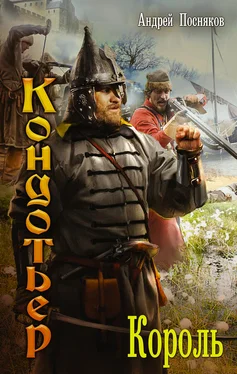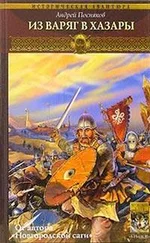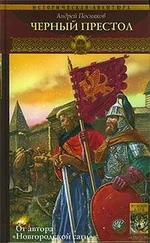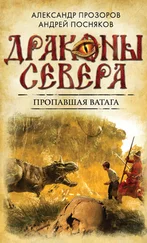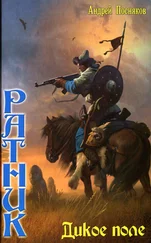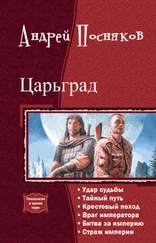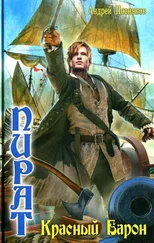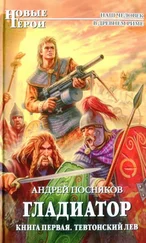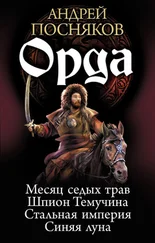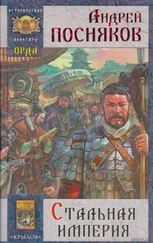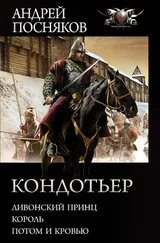Одна из сестер – та самая Пелагея – осенив обетницу крестным знамением, закивала с доброй улыбкою:
– Так, так. Работай, дщерь, во славу Божию. А кадку у ключницы возьми, у сестры Марфы, там, у ворот.
– Я знаю где… И за песком на ручей сбегаю, все тут почищу.
– Вот ведь старательная дева, – проводив убежавшую девчонку глазами, монашки переглянулись… и неожиданно хмыкнули. – Небось, немало нагрешила уже, хоть и юна.
– Да уж, сестра Пелагея. С такими-то глазищами – успела уже!
– Ну, то не наше дело. Пускай старается. С песком так с песком.
Испросив у ключницы небольшую кадку и половую тряпицу, новенькая обетница побежала на Черторый – за песком да заодно и тряпицу прополоскать в ручьевой водице, а самое главное, передать важную весть своим.
С высоких стен монастыря просматривалось все устье ручья, и мостки, и узенький песчаный пляжик, уйти с глаз надолго было нельзя – подозрительно, сразу ж доложат игуменье, мол, обетница Александра, за песком испросясь, куда-то с глаз долой делась. Матушка Фекла на расправу крута, живо выгонит. Поэтому времени у Аграфены имелось очень и очень немного, до двора Галимчи-татарина не добежать – далековато.
Неторопливо набирая в кадку холодного – студеного даже! – песка, девчонка внимательно присматривалась и прислушивалась ко всему, что делалось вокруг, и услыхала-таки громкие ребячьи крики. На излучине, возле чьего-то забора, забавлялись совсем уж мелкие детищи – лет по восемь, по десять. Несмотря на ноябрь месяц, ручей еще не покрылся льдом, а выглянувшее к обеду солнышко растопило подзамерзший уж было берег до грязи. Там вот, на крутом бережку, ребятишки играли в «царя горы», ежесекундно рискуя скатиться по скользкой грязи прямо в студеную воду, да потом, как водится, пасть под горячую руку справедливо возмущенным родителям.
– Эй, робяты, – заглянув за забор, поманила Санька. – Пряника медового не хотите ль?
Сразу же бросив игру, мелюзга заинтересованно закивала:
– Хотим! А ты нам просто так его дашь?
– Не я. И непросто так. Постоялый двор Галимчи-татарина знаете?
– Угу.
– Спросите там двух Михайлов, передайте от Аграфены-девы поклон. Сразу и пряник получите.
– Всего-то поклон передать? – изумленно переглянулись детишки.
– Всего-то, вот вам крест! А пряник-то вкусен, ага.
* * *
– Пряники просят? Что – вот так просто, ни за что? – Михутря и Магнус, поставив кружки на стол, удивленно взглянули на служку.
Тот пожал плечами:
– Не знаю, господа мои. А вот что есть – говорю. Они у ворот стоят, отроци малые, на двор заходити боятся. Да и не пустит никто.
– Ладно, глянем…
В Алексеевский храм пошел самолично Магнус. Отстоял вечерню, а заодно и встретился с Графеной. Внимательно выслушав девушку, король многозначительно кивнул и велел ждать дальнейших инструкций.
– Чего, господине, ждать? – не поняла рыжая.
– Указаний моих жди, Александра, – спокойно пояснил молодой человек. – Встретимся завтра же… где тебе удобней?
– На ручье, знамо дело. Днем, пред обеднею. А ежели не смогу, так сразу после обедни.
Таким образом, для создания и претворения в жизнь плана освобождения своей высокородной супруги у Леонида осталась ночь… и еще полдня. Впрочем, сегодняшний вечер тоже не оказался потраченным зря! Ни сам Магнус, ни его друг Михаил Утрехтский, бывший разбойник, капитан шайки ландскнехтов и бывший гез, особенно долго не думали, посчитав, что в данном случае лучше всего сыграть на скорость, провернув все как можно быстрее. Самое же главное, не договариваться больше ни с кем, используя только имеющиеся в распоряжении силы: самих себя и Саньку с компанией малолеток.
Выбраться из монастыря – и податься на запад, не обязательно сразу в Ливонию, для начала можно и в Польшу, или Речь Посполитую, как с 1569 года именовались объединенная Польша и Литва. Понятие «государственная граница» в те времена отличалось некоей неопределенной расплывчатостью, никаких контрольно-следовых полос и грозных пограничников с собаками или каких-либо застав еще и в помине не было. Просто на главных трактах иногда стояли стрельцы или иные воинские люди, скажем, какой-нибудь захудалый дворянин со своими боевыми холопами. Иногда стояли, иногда – нет. И это – толок на торговых путях, что же касаемо лесов, полей, рощиц и всего такого прочего – там хоть целыми ватагами можно было через границу подаваться, никто не препятствовал – не мог, да никого и не было-то.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу