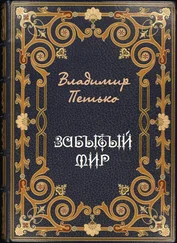— Ах ты, бесенок! Как бы ребро не попортил...
— А ты-то бабахать начал! Я думал — живым не уйду!
— Ну, я, вишь, увлекся... Пойдем отдыхать! Ребятки! Найдите-ка мне Гаврюху, пусть к отцу Ипату зайдет.
Они разоблачаются, а угол уже гудит от десятка поединков. Воодушевленные интересным зрелищем, отроки кинулись пробовать свои силы.
Бобер идет в светелку монаха радостный: «Ну вот! Какой внук вырастает! И смел, и умен! А как он меня мечом!»
Отец Плат запалил коптилку, сидит, бубнит что-то, переписывает своего Плутархоса.
— Слышь, отец Ипат, подрос наследник-то у меня! — Бобер плюхается на лавку. — Так мечом огрел — ребро пополам!
Монах оборачивается недоверчиво:
— Правда, что ль?
— Ей-Богу! Гляди, руку поднять не могу!
Ипат удивленно дергает шеей, смотрит на Митю. У того виноватый, разнесчастный вид.
Дед вдруг начинает хохотать во все горло. Расплывается и монах. Входит Гаврюха.
— Звал, воевода?
— Звал! Ты что же, стервец, мне с внуком сделал?! А?! Руку ему сбил! Как ты его драться научил?
— Как драться?
— На мечах.
— А-а... Да по-своему. Чтобы полегче было.
— Как-как?! Чтоб полегче?
— Да...
Бобер удивленно оглядывается на монаха, тот ухмыляется. Бобер вскрикивает:
— Что?! И ты, что ли, руку приложил?
— Не без того...
— Ах вы засранцы! — Бобер бьет кулаком по колену и кривится от боли. — Ну ладно! Мне уже поздно переучиваться, а он, видно, пусть. Пусть по-твоему бьется. Но я еще посмотрю, нет ли изъянов. Хорошенько посмотрю! А?
— Да нет, воевода. Я уж сколько с тобой... И не в одной переделке побывал, а вот — жив ведь!
— Ладно-ладно! Посмотрим! Принеси-ка нам с отцом Ипатом бражки кувшинчик, надо за нового бойца выпить.
— Сей миг, воевода!
Отец Ипат с видимым удовольствием слушает Бобров приказ. Он сворачивает свою писанину, бережно укладывает на полку. Достает подсвечник, зажигает вдобавок к коптилке три свечи (перенял привычку деда Ивана), достает посуду.
Гаврюха принес полный большой кувшин и собрался смыться потихоньку. Монах остановил его:
— Скажи там Матрене, пусть рыбец принесет, икорки, маслица, ну там, пусть сама сообразит. Квасу княжичу. А сам ступай с Богом... А, воевода?
— Я поспрошать хотел, ну теперь ладно — тебя расспрошу. Ты, Гаврила, завтра сам мне все покажешь и объяснишь, приготовь все. С утра у меня дела, потом... потом... Перед обедом. Понял?
— Понял.
— Иди.
Гаврюха удалился довольный. Появилась Матрена с разными вкусными снедями. Мужчины принимают первую кружку, Митя пьет квас. И исподволь, сам собой завязывается один из тех степенных, очень умных, по мнению Мити, разговоров, слушать которые и даже слегка участвовать осторожными вопросами, ужасно нравится каждому вступающему в жизнь молодому человеку, ну и Мите, конечно.
— Давай, отче, давай, за нового бойца! Должен из него боец выйти. Если не зазнается!
— Не зазнается... А, Мить?
— Рано мне зазнаваться.
— Вот-вот... Рано... Да! Думает в драке, это очень редкое свойство, и ему не научишь, оно в крови должно быть.
— Ну так кровь-то в нем чья? — усмехается монах. Митя потеет от удовольствия.
У монаха и деда появляется хмельной энтузиазм. Они начинают рисовать картины и обещать.
— Вот погоди, на лето ба-альшая война будет, — гудит монах. — Небось теперь-то даст тебе дед мечом помахать. А? Или не дашь?
— А что? Вполне... Вот только уверюсь, что у него нигде слабинки нет. Пусть машет вволю.
Митя думает: «Наконец! Неужели так просто? Мечом деда огрел и все!»
— Только мечом махать — не главное.
— Для него-то сейчас — главное, — смеется монах.
— И сейчас не главное! — повышает голос дед. — Главное — думать!
— Ну, думать оно никогда не грех, только сейчас-то чего нам думать? Думать будет Олгерд. Вот если бы его планы знать...
— Планов Олгерда не знает и не узнает никто. Но нам это и не надо. Нам важно, что он пойдет, то есть мы пойдем под его командованием, всей Литвой. Из этого исходить. Нам идут помогать, значит, мы должны быть готовы лучше всех.
— Почему? — вставляет Митя.
— А потому что придут и помогут, а если я начну сопли жевать, поотхватывают лучшие куски и разойдутся. А то и не разойдутся — хрен выгонишь. Вот и думай! Ну, за Любарта-то я спокоен более менее. Сейчас все есть, снаряжение, кони... Урожай был... Вот только военное хозяйство... Правда, не хуже оно, чем у других братьев, даже чем у Олгерда, но...
— А все тревожишься, клык бобровый, — так монах называл Бобра после схоронения Мити на болоте, и то редко, наедине, в интимной обстановке, а при Мите сейчас назвал впервые, и у того округлились глаза. — Так он и не устроил по-твоему.
Читать дальше