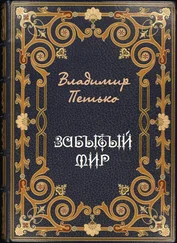Казалось бы, и мужичишка-то — соплей перешибить, а сидит себе, и то врет, то жалуется, то хвастается, а сам хлещет и хлещет, и все как ни в чем не бывало!
Кориат тряхнул головой, отделываясь от лезущей в голову дури, кликнул Арвида, одного из двух оставленных ему Семионом слуг, велел найти купцов, привезших «тайное» послание Олгерда (теперь он знал, какие это купцы, потому и не остерегался), и передать им ответ.
Купцы...
Вспомнил он и купцов. Однажды, сидя у Андрея Кобылы на пиру, уже крепко в тумане, Кориат узрел вдруг очень знакомое лицо. Где видел?! Память на лица у него была сильной, и он раздражался, когда вот — знакомое лицо, а окликнуть — как?
Он тронул хозяина за плечо:
— Это кто?
— Где? А! Это купец наш, Кузька Ковырь. Богатый. На что тебе?
— Кузька?
— Ага.
— Купец?! Кузька... Кузьма... да где же?!.. Да что ж!.. — перед глазами наконец встал берег Итиля, костер, уха... Уха! Да ведь это он меня ухой накормил! Такой ухой, что при всем московском гостеприимстве воспоминание о ней не меркнет.
И Кориат собрался окликнуть купца и посадить радом с собой, но старая (еще от отца) привычка к осторожности удержала: ведь то тверские... тьфу!.. новгородские купцы были... не то что-то...
Кориат начал приглядываться и увидел, что купец занервничал — зыркнет и отвернется, и опять... что за черт?!
— Андрей, а он в Орду часто ходит?
— Да! Это наш, почитай, главный ордынец! Хоть и молод, тридцати еще нет, — но шустер — спасу нет! Он там всех знает И его все. И князь Семион шибко им доволен.
«Ну вот, посол-ловкач, весь тебе и сказ! Ты еще до Орды доехать не успел, а тебя уже обложили... Но ведь случайно!.. Ну и что, что случайно? Ведь обложили? Обложили! Обезвредили! Ты мог сразу с берега оглобли поворачивать, только деньги бы все сохранил! Ведь эти купцы и туда и сюда весть подали. А-а-а!! Да ты ведь сам им еще и коней подарил! Ххах, молодец! Ну молодец! Вот как уха «тверьская» тебе отрыгнулась!»
Все это всполохами мелькнуло в Кориатовом мозгу, он освирепел и вперил свой орлиный княжий взор в мерзкого купчишку, так нагло и просто обманувшего его на переправе, решил испепелить его взглядом, но тут кто-то потянулся к нему чокаться и свалился под лавку, он огляделся и вспомнил, что сидит хоть и в почетном углу, да кем? — пленником, и никто тут его не боится.
Купец-то, правда, заметно робел. Никак не желал встретиться взором, отворачивался. Кориату пришлось прикрикнуть:
— Кузьма! Ты что же, продажная твоя душа, приятеля своего и благодетеля не замечаешь?
Стол умолк удивленно, купец степенно поднялся:
— Здоровья тебе, князь, и всяких благ. Спасибо, что не забыл встречу нашу и напомнить не погнушался. Хороший ты человек, не зазнаешься, простых людей не забываешь. Они тебе за это отплатят. Твое здоровье!
«Ты уже отплатил, мерзавец! — Кориат сразу и не нашелся. — Действительно, как и зачем ему высовываться, лезть... К князю...»
— Э-э... Эй! Кузя! Ну-ка поди-ка сюда! — рядом с Кориатом было уже достаточно места — два именитых соседа валялись под столом. — Ну-ка сюда!
Кузьма подошел, поклонился учтиво сначала хозяину, боярину Андрею, потом Кориату, потом столу и замер.
— А ну садись! Кузьма осторожно сел.
— Так ты что ж, сукин сын, тогда новгородским прикинулся? Почему?
— Это на всякий случай, князь. Видим — литвины... Ну а литвины московитов не жалуют...
— А как же вы узнали? Я ведь сказался — из Киева.
— Хех! Да по усам.
Кориат оглянулся на пирующих, потрогал свои холеные, свисающие с углов рта почти на четверть, усы, чисто выскобленный «подбородок и только вздохнул.
Любаня караулила Кориата как верная жена, но как-то не надоедала. Когда он с чувством исполненного долга и явно повеселевший вышел из своей светелки, она вывернулась к нему из-за угла:
— Ну что, написал?
— Что? — не понял Кориат.
— Письмо написал?
— А-а... Написал.
— А то я все помешать боялась. Много, видно, прибавил тебе дядя Семен забот.
— Почему?
— Лоб морщишь. Не в духе. Письма, вот, пишешь...
— Любаня! Ну сама посуди, доченька, легко ли в плену жить. И обидит всякий, и шагу по-своему не ступи...
— И шагу не ступи, и обидят, — тяжело, не по-детски вздыхает Любаня.
— Да ведь я живу вот...
Неимоверная жалость сечет Кориата по сердцу. Тут и выпитые ковши, и угрозы Семиона, и воспоминания о своем Мите... Но главное — сама она, с первой же встречи увиденная в совершенно трагическом ракурсе — брошенная... Хотя это, может, и не так было, ведь не видел он ее отношений с мачехой, с няньками, но соединилась она в его душе с образом Мити, и, обращаясь к ней, он обращался к Мите, и вся его любовь к полупотерянному сыну изливалась на эту девочку, грея ее так, что она просто расцветала при встречах с ним.
Читать дальше