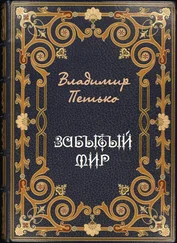Джанибек откинулся на левый локоть.
— Мне неинтересны интриги нищего короля Олгерда! (Нукеры потянули Кориата к выходу, и он прикрыл глаза — все!) — хан приподнял ладонь — нукеры замерли, — но, может быть, этот лукавый посол будет еще чем-нибудь нам полезен?
Поднялся со своего места глава московских послов. Лопатой вперед вытянулась его черная, в струях седины огромная борода. Он шагнул вперед два шага и упал на колени:
— Позволь, великий и справедливый хан, отправить его к князю Семиону, он дознается, куда делись Олгердовы подарки.
— Хи-хи! — Джанибек перевалился на правый локоть, довольный, что щекотливое положение (не мог же он все-таки вот так просто, да и снести голову послу! Но и слабость показать не мог!) с помощью московитов так ловко разрешилось, и весь шатер загоготал, словно стадо жеребцов.
Кориат сквозь слезный туман смотрел на бороду (ничего, кроме бороды, он не видел) и дивился, как чудно распоряжается судьба: не приди в голову этой «бороде» повеселить хана, и его, Кориатова, голова уже валялась бы сейчас отдельно, а эти руки...
К нему кто-то наклонился:
— Хан жалует тебя, что ты хочешь напоследок, проси!
— Людей! — прошептал Кориат, — оставьте мне моих людей...
— Людей? — переспросил Джанибек толмача и весело махнул рукой, — оставьте ему этих двоих его людей.
И снова весь шатер загоготал, а Кориата, с намертво скрученным в локтях и кистях за спиной руками, шарахнув по затылку рукояткой плети, бросили на кошму перед важно сидевшими в сторонке московитами, и он, то ли от горя и стыда, а может, от слишком быстрого возвращения «оттуда» к жизни, потерял сознание.
— Кажись, очухался, — кто-то склонился над Кориатом.
«Где я? Как попал сюда? Хотя... понятно... Какие-то куски ткани... Одеяло? Кошма? Нет, не на полу. Свечи. Запах хлеба! Э-э, да ведь я, должно, у русичей! Ох, слава тебе, Гос.. хотя... Да ведь в Москву потянут, там отвечать, а пока... до Москвы далеко еще...» — Кориат потряс головой, в ней стучали барабаны и гудели колокола.
— Что князь, допрыгался? — это издали, из-за стола, спрашивает «борода». — Чего тебе в твоей Вильне не сиделось? Понес черт на Москву клепать.
— Вильна не моя, — вздохнул Кориат, а Олгердова. Будь Вильна моя, полез бы я в эту навозную кучу?..
Он зашевелился, пытаясь подняться. Рук не чувствовал совсем. Ему помогли. «Ох, ведь у них тут стол не татарский! И меды московские, не этот тебе мерзкий кумыс».
— Дайте медку-то хоть ковшик. Зачах я на ихних кумысах.
— Ишь, какой шустрый! Нагадил сколь мог, и у нас же медку просит! А вот скалкой по ребрам не хошь?
Кориат оторопел. Ему как-то в голову не пришло сразу, что это враги. Нешуточные. Что это теперь его господа, а он их пленник, раб. Но прежний Кориат, сильно в Орде посмурневший, захиревший, быстро воскресал, стоило ему услышать знакомую речь, увидеть не косоглазые рыла, а нормальные человеческие лица.
— Да ладно жидиться-то, нагадил... Много я вам нагадил? Что ни делал, все впустую. Стоило вам приехать, все прахом пошло.
— Ишь ты! — «борода» неожиданно рассвирепел. — Стоило приехать! Именно «стоило»! Видал, поди, сколько нам это стоило! Сколько бы на эти деньги оружия можно было наделать, стен понаставить! Паршивец!
— Ладно... Так и скажи, что меду жалко, — обиделся Кориат.
Тут вся компания, до этого молча слушавшая своего предводителя, разразилась таким хохотом, что снаружи вбежал стражник узнать, что стряслось.
Смеялся и сам «борода». Настроение у московитов было прекрасное. Так, одним ударом, свалить грозного соперника, да еще заполучить его в свои руки — они и не ожидали!
— А ведь того, князь Федор! Попал!
— У-ух-ха-ха! Ха! А-а-хха! В самую точку! Наш Глебыч все отдаст, рубашки не пожалеет, а меду — не проси!
«Борода» делает страшное лицо:
— Цыц, охальники! Не потерплю поклепа! На князя бочку катить?! Сенька, нацеди этому подлецу. Пущай зальется!
Сенька подносит Кориату жбан. Кориат ничего не может, руки его висят как плети, самый мучительный момент, когда в затекшие конечности возвращается жизнь, когда до скрежета зубовного хочешь пошевелить хоть пальцем — и не можешь.
— Поднеси, не могу, — полушепчет, полустонет Кориат. Сенька подносит жбан к его губам, он жадно глотает раз, другой, и вдруг отшатывается, тараща глаза, не может вздохнуть и чувствует, что умирает.
«Отравили, гады!!! За что?! Зачем?!!» Бессильные до этого руки судорожно хватаются за горло, рвут ворот рубахи.
Читать дальше