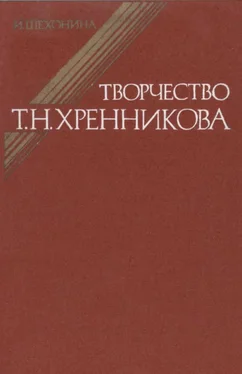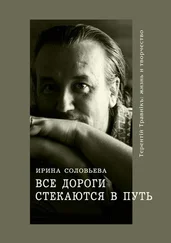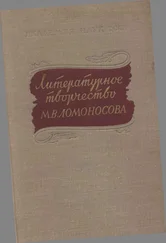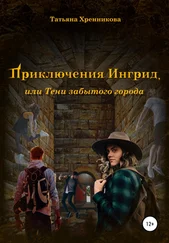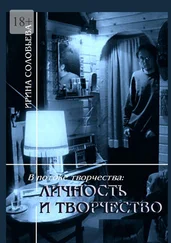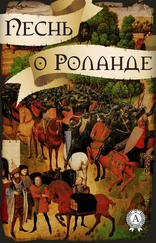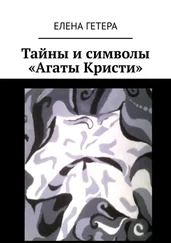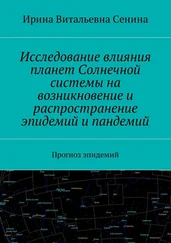Именно эстетического кредо, а не просто восторженного поклонения перед любимым композитором. Здесь также, как в случае с И. С. Бахом и С. С. Прокофьевым, речь идет не о заимствовании отдельных приемов, а о претворении и развитии найденных великим гением русской классики принципов симфонизма, где доминантными являются глубокий психологизм динамично действенных образов в широчайшем эмоциональном диапазоне — от лирико-созерцательных до трагедийных — и опора на мелос, как центральное выразительное средство в их общем синтетическом комплексе.
Мелодия, понимаемая и трактуемая не в сравнительно узкой плоскости напевной кантиленности музыкальной ткани, а как важнейший фактор интонационного содержания звукового образа, драматургии, формы произведения как процесса развертывающегося во времени, — важнейший компонент творческого почерка Т. Н. Хренникова. Видный дирижер В. И. Федосеев заметил, говоря о Третьей симфонии: «Главным достоинством этого сочинения мне представляется заложенная в нем глубокая мысль — мысль, выраженная посредством мелодии. Это единство мелодии и мысли, вообще свойственное Хренникову, ощущается здесь, пожалуй, особенно сильно» (см. 14, с. 244–245). Можно спорить, какое именно качество в первую очередь отличает партитуру Третьей симфонии от других аналогичных по жанру сочинений композитора. На наш взгляд, это необычайная концентрация формы, особый блеск оркестровой лексики и редкая солнечность восприятия мира. Но само наблюдение о том, что музыку замечательного мастера отличает «мысль, выраженная посредством мелодии», абсолютно верно. Именно в сфере мелодии находится эпицентр интонационного — развития хренниковских партитур.
Так обстоит дело и во всех его симфониях, и в инструментальных концертах, где виртуозный блеск всегда мелодийно насыщен, где традиционные каденции оказываются эпизодами с чрезвычайно динамичным мелодико-интонационным развитием. Последнее очень точно подметил крупнейший советский дирижер Е. Ф. Светланов. Суждение его тем более ценно, что он является одним из самых активных пропагандистов творчества Тихона Николаевича и одним из виднейших знатоков его партитур. Говоря о Втором концерте для фортепиано с оркестром, Е. Светланов подчеркивает, что в драматургии его большую роль играет широко задуманная, доминирующая, в высшей степени виртуозная сольная партия (см. 14, с. 241), интенсивно насыщенная разнообразными каденциями, в которых большую роль играет полифоническое изложение музыкального материала. А многоголосная структура необходимо предполагает важнейшую роль мелодического начала.
Хорошо сформулировал значение, которое имеет мелодия в качестве определяющей черты музыкального языка Т. Н. Хренникова, А. Н. Холминов. «Именно мелос определяет жизненную силу его сочинений, — пишет он. — Мелодическая неиссякаемость — одна из самых привлекательных сторон музыки композитора — уходит корнями в какой-то особо фундаментальный интонационный пласт. Он сумел сплавить элементы фольклора, революционной песни, городского романса, создав в результате новое музыкальное качество. Его мелодии всегда индивидуальны — без вычурности, претензий, псевдоновизны, они льются широким эмоциональным потоком, „от сердца к сердцу"» (65, с. 177).
Проблема мелодии всегда прочнейше связана с интонационным тематизмом произведения, с кристаллизацией музыкального образа, со структурой его. Однако связь эта в современном музыкальном творчестве обретает самые различные формы. Тема-мелодия как ядро музыкального образа, как концентрированный импульс развития мысли в XX веке композиторами понимается и трактуется в широком смысловом диапазоне. Особенно ощутима эта расширительность в разного рода «авангардных» течениях первых двух третей нашего столетия. Полярно крайние точки отсчета здесь додекафонная и серийная техники с их жесткой фиксацией интервалики последования звуков в мелодии-теме и «размытость» музыкальной ткани в алеаторике и сонористике. Примечательно однако, что противоположности эти сходятся в одном и весьма существенном: пластичность, скульптурная рельефность музыкального образа, его мелодическая красота в подобных случаях выхолащиваются. Оголенный каркас 12-тоновых серий иссушает интонационную атмосферу музыкального произведения, увлечение сонорными эффектами превращает образную структуру его в подобие первичной «звуковой протоплазмы», в некий еще не упорядоченный звуковой хаос.
Читать дальше