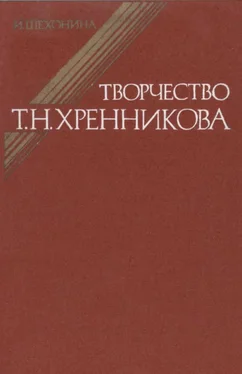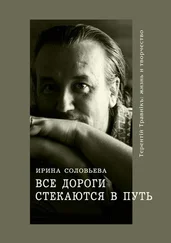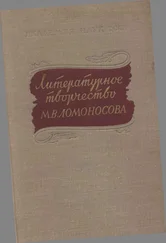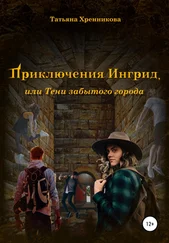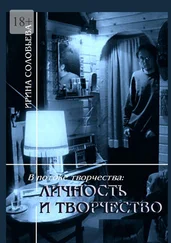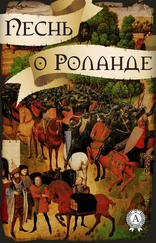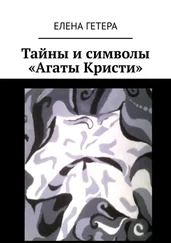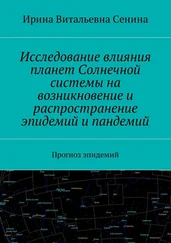Не избежал в какой-то мере подобной участи и Т. Н. Хренников. В связи с отдельными произведениями, с их частными деталями музыковеды находили в его музыке немало влияний тех или иных авторов. Не будем полемизировать с этим, чтобы не увязнуть во второстепенных деталях и не отойти в сторону от главного — формулирования основных черт музыкального языка Т. Н. Хренникова в аспекте его генетических корней.
Попробуем опереться на высказывания самого композитора. Подобные приемы в данном случае вполне правомерны, поскольку Тихон Николаевич принадлежит к художникам, четко и ясно выражающим свои мысли, к художникам-публицистам, для которых важна не только композиторская деятельность сама по себе, но и все связанное с осмыслением музыки, с рассказом о ней широкому слушателю.
«Что прежде всего захватывает человека, который слушает музыку? Ее эмоциональный строй, ее прикосновение к незримым струнам человеческой души. Такова музыка Баха. Вот почему она волновала живших, волнует живущих и, думаю, будет волновать тех, кого пока еще нет на свете. Многие задаются вопросом, что такое современная музыка? То, что написано сегодня, может не быть современным, а вот Бах современен, хотя он жил несколько веков назад» (см. 14, с. 247).
«Душа Баха — это душа человека-колосса, видящего язвы мира и выражающего их своим великим искусством. Музыка Баха — это освоение реально существующего мира с его недостатками и положительными качествами, а не музыка человека, погруженного в свои личные переживания, ставящего себя в центр, вселенной» (см. 14, с. 29).
Оба они не случайно посвящены великому мастеру. Любовь к Баху у Тихона Николаевича остается неизменной на протяжении всего творческого пути. Высказывания эти разделяют более четырех десятилетий. Первое из них относится к 1974 году, второе содержится в студенческой тетради, которой молодой музыкант поверял свои мысли. Поразительно их «консонансное созвучие», их общий эмоциональный строй, существо излагаемой мысли. Может возникнуть вопрос: как же это бахианство проецируется на музыку Т. Н. Хренникова? Ведь в ней начисто нет прямых интонационных аналогий с И. С. Бахом? Но это еще один пример несостоятельности веры во всемогущество подобного метода. Генетические связи творческого почерка композитора бывают и более глубинными, сложными, опосредствованными, но в конечном счете и более значимыми.
Здесь перед нами как раз такой случай. И. С. Бах для Т. Н. Хренникова — пример многообразия отражения явлений жизни (преобладания больших идейно-значимых тем и образов высокого типического обобщения), образец логики развития композиторской мысли, тщательной шлифовки формы. Но все это Т. Н. Хренников умно и с чутьем большого художника экстраполирует в современную жизнь, в современную музыку, претворяет в соответствии со своей индивидуальностью.
И еще одно существенно важное эстетически-стилевое положение композитора: «Чайковский — наш великий учитель. Партитуры его симфоний, опер и. балетов, страницы его романсов и произведений для камерных ансамблей — лучший учебник мастерства. У Чайковского нужно учиться умению творчески подходить к народной песне. Вспомним финалы его Второй и Четвертой симфоний, скрипичный и фортепианный концерты. С каким изумительным блеском Чайковский из небольших народных песен делал симфонические произведения, развивал их и подчинял общему замыслу. Гениальные оперы Чайковского по силе драматизма и психологической глубине являются непревзойденными в русской музыке. Чайковский, как ни один из русских композиторов, умел раскрывать внутренний мир человека. А его романсы. Это не просто маленькие пьесы с красивой мелодией для голоса, а законченные рассказы о человеке — о первой любви, измене, смерти. Все они написаны с таким лаконизмом и исчерпывающей музыкальной характеристикой, что являются настоящими музыкально-психологическими шедеврами. Чайковский — самый мой любимый композитор. Я многому учусь у него и буду учиться всю жизнь» (см. 14, с. 248).
Цитата эта взята из статьи Тихона Николаевича, опубликованной в газете «Комсомольская правда» 6 мая 1940 года. В ней очень симптоматичен итоговый вывод: «многому учусь у него и буду учиться всю жизнь». И предшествующие статье годы, и последующие за ней четыре с лишним десятилетия подтверждают, что это отнюдь не звонкая фраза, а концентрированное выражение одного из важных аспектов эстетического кредо Т. Н. Хренникова.
Читать дальше