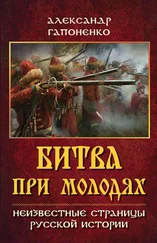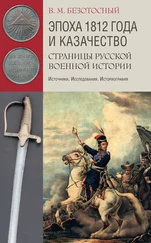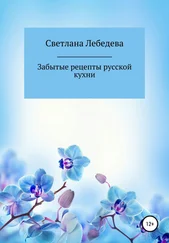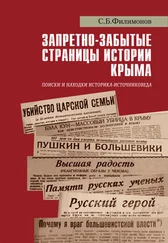Наряду со свойственным Тютчеву ощущением слитности с природой в стихах, использованных композитором, звучат и иные настроения, порожденные мучительным разладом с нею. Поэт противопоставляет прекрасную природу злому мятежному жару души, погруженной в страдание и хаос. И тогда он говорит о чувствах тоски и ужаса, отчаяния и одиночества, которые овладевают человеческой душой ночью. Раздвоение души и жизни, соединение болезненного и страстного дня греховной души с пророческими откровениями ночи делают жизнь человека мучительной, но и прекрасной, рождаются пленительные образы ночи: сама ночь сравнивается с океаном, день — с образом волшебного челна, плывущего по волнам снов в таинственные заливы прошлого. Это ночные пророчества, «праматерь», «правремя», разнообразные гулы, необъяснимые звуки:
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой...
В 1912 году в соч. 24 было опубликовано 4 романса на слова Тютчева.
№ 1 «День и ночь» [8] Посвящен одной из первых исполнительниц романсов Метнера А. М. Ян-Рубан.
. Этому стихотворению отдано в сборнике первое место, думается, не случайно — оно программно:
День, земноводных обновленье,
Души болящей исцеленье <...>
Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами.
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!
Если внимательно разобраться в указаниях композитора, то певцу и пианисту многое окажется подсказкой для выразительного исполнения романса. По фактуре он достаточно традиционен: вокальная партия сопровождается триольным аккордовым аккомпанементом в первой и заключительной частях романса, соответственно образам дня и ночи, написанных в ми бемоль мажоре и ми бемоль миноре.
Изобразителен в аккомпанементе каждый такт: на словах «ткань благодатную покрова» и т. д. пассажи, чередующиеся в левой и правой руках, как бы рисуют волны ткани; во фразе «отбрасывает прочь» на последнем слове — «падающий» вниз пассаж и т. п.
№ 2 «Что ты клонишь над водами». Это совершенно противоположная по содержанию, нежно-акварельная миниатюра. В ней всего 18 тактов, причем у вокалиста и того менее—15. Общий характер указан: Moderato, in modo rustico (умеренно, в сельском характере).
Кого при виде ивы, склонившей свои ветви над водами, не охватывало окрашенное нежностью чувство идеальной красоты?! Другое, но не менее прекрасное чувство поэт выразил в пленительном образе бегущей мимо ивы беззаботной струи:
Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой под струей...
Но струя бежит и плещет
И, на солнце нежась, блещет
И смеется над тобой...
Композитор в этом романсе через детализированную изобразительность в равной степени и голоса и аккомпанемента стремится одухотворить эту запечатленную поэтом картину: вступительные 1½ такта — как гроздья склонившихся к воде ветвей — не просто вступление, а лейтмотив, он возвращается в основном виде в шестом такте, а с девятого такта, орнаментированно варьируясь, звучит до самого конца; сам же «орнамент» рисует то, как бежит и плещет струя. «Изобразительно» звучит и партия голоса: в первых двух фразах преобладает спокойное движение четвертями, а от слов «и дрожащими листами» и т. д. в волнообразной мелодии — движение восьмыми и шестнадцатыми. Предпоследние два такта в партии фортепиано — почти буквальное повторение вступительных, так заключена в рамку любимая картина.
Следующий романс — «Дума за думой, волна за волной» (№ 3) — также миниатюрен, в нем 18 тактов. Шестистрочное стихотворение Тютчева, положенное в основу романса, озаглавлено «Волна и дума», и, думается, композитор отказался от этого названия потому, что в нем потерялась бы музыка самого стихотворения. Оно так музыкально, что музыка вроде бы ему и не нужна. Но ведь и думы, теснящие сердце, и волны в безбрежном море способны родить в любом человеке музыку, но каждый ли сумеет ее выразить?! Особенностью романса является неизменный однотактовый лейтмотив, проходящий в фортепианной партии, частично в параллельном звучании у голоса и в их полифоническом переплетении. Рождается он из тоскливых повторов ноты ля во вступительном двутакте к романсу, на этой же ноте как бы застывает первый слог слова «Дума» (пианиссимо на фермате). Так озвучивается, материализуется вечно существующее, вечно вопрошающее чувство-мысль. И длится мелодия, собственно, не мелодия, а тихая речь «про себя». Лишь на второй кульминации певец на миг «показывает» нам отчаяние героя и вновь уводит в вечность, а вдали — свет, иначе не был бы мажорным заключительный аккорд.
Читать дальше
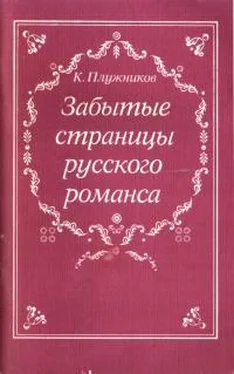
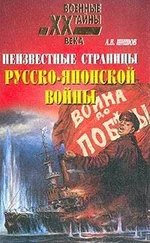
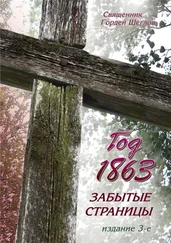

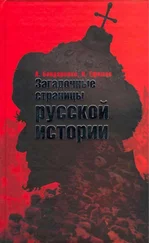

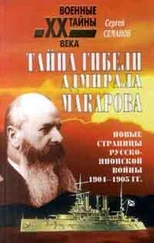
![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)