Была это работа волн и их добыча.
««Пройдут века, – думал Ульянов, – и ничего от этой скальной крепости не останется! Седое, вспененное море начнет проникать туда, где сейчас старательный крестьянин бросает зерно на вспаханное поле. О, если бы море знало, чего хочет и к чему стремится! Увеличило бы в два раза усилие, умножило бы ряды могучих волн и захватило бы одним взмахом то, на что теперь, борясь бессмысленно, тратит целые века. Как так не поступить! Пронзаю и долблю грудь старых понятий и мечтаний, отрываю от них скалу за скалой, пространство за пространством, но знаю, что за этой преградой лежит под паром низина. Хочу ее захватить, залить волнами моих мыслей и возвести новую крепость, могучий замок, которого никто не сумеет захватить, никто!».
В это время волны убегали. Уже не достигали до скалистых мысов и темных заливов; успокоенные, потерявшие сознание, лизали они каменистые островки, разбивались бессильно об острые ребра выщербленных коралловых рифов и отходили дальше, все дальше, исчезая в белой купели моря, в перевернутой мгле, в бешеном танце вспененных волн, над которыми метались и парили чайки, крича стонуще:
– Буря! Буря! Буря!
Тогда он напрягал взгляд и искал рубцов на скалах; ран, причиненных бурлящим приливом. Ничего не замечал… ничего!
Гранитный обрыв стоял нерушимый, могучий и гордый, выставляя каменную грудь, издеваясь над морем и вихрями. Веяние бриза залетало сюда, роптало среди сухих, твердых трав, шипело в щелях и глубоких расщелинах.
– Не сила, но время! Время! Время!
Ульянов сжимал руки, хотел угрожать, проклинать и метать слова ненависти, но не мог и умолк, очарованный, онемелый.
На море загорались и пылали, передвигаясь от горизонта вплоть до узких побережий, покрытых гравием, полосы чудного света. Розовые, зеленые, золотистые – на рассвете; пурпурные и фиолетовые – в часы вечерней зари. Окутывали, ласкали, успокаивали взволнованное море, гневное без причины, без передышки.
Умолкало, плескалось покорное, обессиленное, мягкое. Журчало тихо, шептало горячо и трогательно, как бы поверяя тайну немым сказам и ощетинившимся берегам:
– Изменится все, а правда останется. Правда, живущая дальше, чем край, где солнце всходит и заходит… Далеко! Далеко!
– Где же она? – спрашивал Ульянов. – Где? Брось меня туда, и добуду я и отдам обнищавшему человечеству, залитому потом, кровью и слезами! Где?
Чайки подлетали легкой чередой и стонали:
– Буря! Буря! Буря!
Ульянов метался по комнате и говорил сам с собой, хотя и Крупская сидела у стола. Он совершенно не обращал на нее внимания, не замечал даже ее присутствия.
Выкрикивал, сжимая кулаки:
– Хорошо! Отлично! Комитет высказался за меня? Должны перенести «Искру» в Женеву? Теперь конец! Знаю, что будет… у меня нет сомнений! Плеханов захватит нашу газету! Буду вынужден порвать с Плехановым и другими, вступить в борьбу. Это огорчает… это меня угнетает!
Пошатнулся внезапно и упал без сознания. Ужасные судороги встряхивали застывшее тело; он скрежетал зубами и хрипел, завывая и бормоча несвязные слова.
Надежда Константиновна с трудом привела его в сознание. Он открыл глаза и сразу все себе припомнил.
Выругался и шепнул, глядя в окно, за которым поднималась грозная, кирпичная стена:
– Пиши!
Крупская сразу уселась у стола.
– Напиши Троцкому, чтобы поспешил с приездом в Женеву. Он приведет к разрыву отношений с Плехановым и его группой. Хочу остаться несколько в стороне. На всякий случай… Приготовь тоже письма к этим молодым студентам Зиновьеву и Каменеву. Это горячие головы и смелые сердца. Пусть приезжают. Плохо, что нет рядом никакого крепкого россиянина, плохо и неприятно, но на войне нельзя принимать во внимание то, кто берется за оружие. Будем драться! Напиши быстрее!
Совершенно разбитый, больной, лихорадочный Ульянов поехал в Женеву. Нашел уже там Троцкого. Долго советовался с ним и с прибывшим из Швейцарии Луначарским. Обрадовался, познакомившись с этим прекрасным оратором с голосом глубоким, благородным, возбуждающим доверие и уважение. Был это настоящий россиянин с высокой культурой и большими познаниями.
Ульянов был вне себя от радости.
«Такое приобретение! Такое приобретение!» – думал он, потирая руки.
Однако его радость скоро ослабла. Узнал Луначарского обстоятельно, нахмурил лоб и бурчал сам себе:
– Ну и что из того, что он россиянин? Несет на себе проклятие расы, этот ни на чем не опирающийся максимализм идеи. Верит в нашу победу, как в какое-то сверхъестественное чудо. Которое внезапно переменит мысли и человеческую природу. Святой Николай или российские, глупые, лакейские авось, эти наши «силы» имеют и над ним власть. Он пойдет за мной, но будет плакать и бить себя в грудь, когда увидит, что кровью будем утверждать наше право, что через неволю поведем человечество к свободе!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





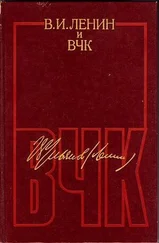



![Антоний Фердинанд Оссендовский - Мирные завоеватели [Избранные сочинения. Том IV]](/books/407725/antonij-ferdinand-ossendovskij-mirnye-zavoevateli-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Перуново урочище [Избранные сочинения. Том III]](/books/407981/antonij-ferdinand-ossendovskij-perunovo-urochiche-i-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Бриг «Ужас» [Избранные сочинения. Том II]](/books/408068/antonij-ferdinand-ossendovskij-brig-uzhas-izbran-thumb.webp)
![Антоний Фердинанд Оссендовский - Тайна трех смертей [Избранные сочинения. Том I]](/books/408118/antonij-ferdinand-ossendovskij-tajna-treh-smertej-thumb.webp)