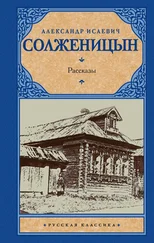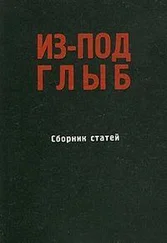«Под духмяной, дурманящей сенью джиды…»
Под духмяной, дурманящей сенью джиды
Ты мне странные, чуждые песни играла.
Одинокая цапля в шуршаньи воды
О-тот берег задумчиво долго стояла.
В эту зарость колючих кустов джингиля,
Так обманчиво пахнущих нашей сиренью,
Я тебя увлекал, чтоб ты стала моя,
Я метал тебе под ноги жизнь в нетерпеньи.
И темнел, сокоснувшись упруго с тобой,
И щекою скользил между сборок подола, –
Ты привольным дыханьем в тиши надречной
Разлила деревянную трель Комсомола…
И – откинулся я! И с позорной цыновки
Я вскочил – стало стыдно и больно мне: как
Мог забыть я опухших больных доходяг?
И расстрел? и трёх тысяч три дня голодовку?{204}
Слёзы женщин – иных, кровь – не этих мужчин, –
Всё б ушло из меня, испарившись по капле…
Нет, девчушка! Останусь, останусь один,
Как вон та одинокая цапля…
1953
И куда, бывало, шаг я ни направлю,
Сам не помню как, оказывался вместо –
В комнате, где девушки из Ярославля,
Жили три учительницы, жили три невесты.
Там висели зайчики смешные на стене,
В безделушках девичьих цвела душа живая,
Над мотками розовых, зелёных мулине
Девушки склонялись, вышивая.
Это было так несовременно,
Так милы мне были три головки русые, –
Блока белокрылого, Есенина смятенного,
Бунина закатного, обдуманного Брюсова, –
Я метал им всё, что помнил только лучшего,
Голову в жару свою охватывая,
Отцедил смолы янтарной Тютчева,
Брызнул зелья чёрного Ахматовой.
Клеткам счёт не потеряли{205}, и на горле выемов
Не поправили, и нити брали – те;
Я списать не дам ли песенок из фильмов, –
Лишь одна спросила в простоте.
Иглы быстрые мелькали так же почасту,
Пальцы ловкие скользили по канве…
И холодную, блестящую корону одиночества
Я в ознобе ощутил на голове…
1953
Дочь моя! Душа моя! Кудерьки альляные
И тоска Алёнушки в глазёнках голубых!
Ты растёшь без воздуха. Кругом – кругом чужие,
И тебя мне прятать надобно от них.
Ты мала, не знаешь ты: отец твой вовсе не жил
И смятен, как юноша, двенадцать лет спустя…{206}
Те, что в глазках твоих стынут, – те же,
Те же прутья самые, мне небо закрестя,
Не дали ладоням ласки мягкой черпать,
С губ других губам испить медка, –
Оттого так смутно жаден на ущербе
Я к годам, последним к сорока.
Ты мала, не знаешь этого туману,
Когда плоть тугая, как струна.
Я привёл бы в дом, привёл бы тебе маму,
Да боюсь, не мачеха ль она.
Я боюсь, она изменит наш обычай,
Длить беседы нам вечерние не даст,
Иль в безумии твой хрупкий стан девичий
На глумление чекистам запродаст…
1953
Написано!.. Целого мира
Не так мне страшен суд,
Как то, что, три триумвира,
Вы судите мой труд.
Вы трое, кому я обязан
Всем лучшим! – как строг ваш взор.
С годами, пусть въявь не сказан,
Пойму я ваш приговор.
Как Пушкин, хотел я о мрачном,
Сказать, осветляя боль,
То буйной, то грустно-прозрачной
Увидеть земную юдоль;
Увидеть алмазные всплески
В засмраженной тесной судьбе,
Безжалостным, как Достоевский,
Лишь быв к самому себе;
Но чутким к узлам свилеватых
Узоров в душе чужой,
Что в мире нет виноватых,
Хотел я провесть, как Толстой{207},
Чтоб вызрел плод поэта
Не к ненависти – к добру.
…Бог знает, насколько это
Моему удалось перу…
1953
«Поэты русские! Я с болью одинокой…»
Поэты русские! Я с болью одинокой,
В тоске затравленной перебираю вас!
Пришёл и мой – мой ранний, мой жестокий
Час истребления, уничтоженья час.
Не знали мы тех лет, отстоенных и зрелых,
Когда со слов спадёт горячности туман, –
Два наших первенца застрелены в дуэлях,
Растерзан третий в рёве мусульман.
Нас всех, нас всех пред пушкинскою гранью
Многоголово гибель стерегла:
Безумием, гниением, зелёным умираньем,
Мгновенным ли пыланием чела;
Повешен тот, а этот сослан в рудник,
Иных подбил догадливый черкес, –
Санкт-петербургские нахмуренные будни
Да желть бензинная лубянская небес…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)