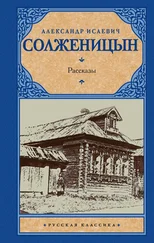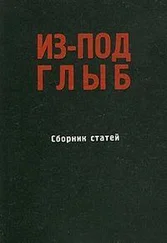Сосны Сокольников, освежённые дождём, мелькали на ходу трамвая. Да уже бывали такие веские опровержения ТАСС – за Германию, что она не враждебна нам и не готовит войны, – никто ничего не ждал…
На Стромынке Нержин попал в комнату, где стояло семь кроватей, пять занятых, и жили гуманитарии – из МГУ и МИФЛИ. Они ещё не разговорились после позднего сна, кто-то из них брился, кто-то ещё безсмысленно лежал, один укладывал в чемодан вещи, а вещи были сплошь книги, и хозяин, не удерживаясь, любовно листал их. Все покосились на Нержина, как пассажиры купейного вагона на мужика с мешком застаревшего сала и сапогами, смазанными дёгтем.
Дождь за окном перестал, но ещё не все подсохли капли на стёклах{216}. По радио передавали двенадцатичасовой выпуск последних известий. Пока Нержин располагался на койке и очищал тумбочку от мусора своего предшественника, известия шли своим чередом отведенных им пятнадцати минут, были безцветны и безоблачны. Кроме всех наших побед в социалистическом соревновании кто-то бастовал в Порто-Рико; безработные в Бразилии захватили машину с молоком, но не выпили его, как можно было ожидать, а вылили в канаву; гнусные финские социал-демократы опять клевещут на Советский Союз; а безжалостные колонизаторы в Индии опять наживаются. Один студент вяло встал, выдернуть вилку громкоговорителя, другой задержал: «подожди, концерт будет». Первый застыл с поднятой рукой – а диктор объявил речь Молотова.
Словно разряд, спаявающий металлы, проскочил между шестью сердцами будущих историков и экономистов. В каком-то едином вздроге они вскочили, замерли кто где – и так слушали, изредка обмениваясь охмуренными взглядами. Черноватые обрывки растягиваемых туч, как уже прорвавшиеся дивизии врага, стремительно неслись по мутно-облачному небу. Мир – ладный, закономерный, удобный – раскололся, дал зияющую трещину, не покрываемую хлипким мостиком Нашего Правого Дела …
Единосогласно это ощущалось – как удар огромного тарана Истории. Нечто великое. Это – эпоха.
И заговорили сразу все те пятеро, да уже и Нержин с ними. И были мысли звонко-отщёлкивающие, и были мысли вязкие. Спорили сразу обо всём: надо ли было затевать в тридцать девятом году дружбу с Германией?{217} и кто кого обманул? и что такое покорённая Европа для Гитлера – пороховой ли погреб или оружейная мастерская на ходу? Только не спорили о том, как пойдёт война: за много лет всё читанное в газетах, всё слышанное по радио и на собраниях, всё виденное на демонстрациях и в кино (и всё запрещённое к промолвке) наслоилось – и юноши не сомневались, что советские рубежи не дрогнут.
Ещё не вовсе принятый ими, Глеб испытывал чувство братства к этим ребятам, прошедшим тут не сравнимое с ним столичное обучение: вот – мы, мы, Семнадцатый и Восемнадцатый годы рождения, – что за грозное-великое нам выпадает?! Но – и мы же готовы к нему. Так несчастно родились – уже после революции, не захватили её даже детской памятью, не то что участием. А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть, и в этом сознании были и счастье, и гордость. Всему поколению – лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству.
Преображенскую заставу нельзя было узнать. Ещё не была досказана речь, а обезумевшие – наши, советские! – люди уже неслись в сберкассы, на бегу выворачивая из карманов сберкнижки; звенели стёкла разбиваемых зеркальных дверей; в густой духоте магазинов качались от прилавка к прилавку толпы вспотевших яростных мужчин и женщин, разбиравших всё, что можно было положить на зубы, – от свежих золотистых батонов до запылённых пачек горчицы.
Однако дух спартанской доблести, дух республиканского Рима курился в комнате ровесников Октября. Даже не гнев, а отвращение вызывало у них это свино-человеческое месиво в магазинах. И они – жили среди этой тёмной толпы? И эта толпа, как и они, смела называться гражданами Союза? Т е х, внизу, на улице, и выше, на площади, было много, ужасно много, но их, идейных, тоже были миллионы, – и на первой линии фронта должны были сказать своё слово э т и, а не т е.
Нержин поехал трамвайчиком сокольнического круга опять в институт. Он ещё не вместил, что заочной сессии не будет, экзаменов не будет, – и сам Институт Философии-Литературы ещё будет ли? Он пошёл со своими жетонами в читальню и набрал учебников, каких в Ростове не было, – и сидел, смотрел сразу несколько, перебрасываясь, даже гладя заманчивые страницы, которые никогда ему не придётся прочесть. И так любил он эти науки, которые никогда не узнает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/books/90723/aleksandr-solzhenicyn-russkij-vopros-na-rubezhe-veko-thumb.webp)