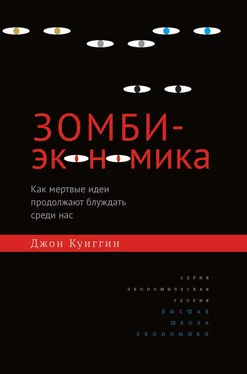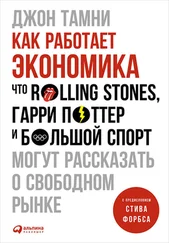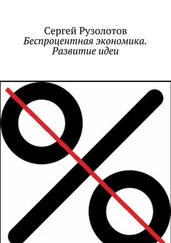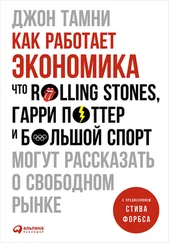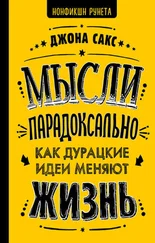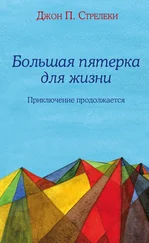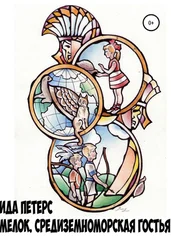В 1984–1985 годах BT приносил валовую операционную прибыль размером 3 млрд ф. ст. и имел обязательства по выплате процентов в 0,5 млрд ф. ст., что после вычета налогов означало прибыль около 2 млрд ф. ст., или 1 млрд ф. ст. в расчете на 50 % продаваемых акций. Реальная процентная ставка по облигациям на тот момент составляла 5 %. Следовательно, поток доходов от BT мог обслуживать государственный долг размером 20 млрд ф. ст. Таким образом, потери британского общества от этой сделки составили более 15 млрд ф. ст.
Определенную роль здесь сыграло сознательное занижение цены. Об этом можно судить по тому, что в первый же день торговли рыночные котировки поднялись в 2 раза. Тем не менее, даже если бы размещение состоялось по рыночной стоимости, убыток (то есть разница между доходами от продажи и размером долга, который можно было обслуживать прибылью от BT) равнялся бы примерно 10 млрд ф. ст.
Очень редко продажа государственных активов в таких секторах, как телекоммуникации и электроэнергетика, оборачивалась прибылью для правительств. В период бума доткомов акции компаний были фантастически переоценены – до такой степени, что продажа некоторых государственных активов, в особенности связанных с Интернетом и мобильной телефонией, становилась прибыльной. Аналогичным образом в ходе дерегулирования отрасли в начале 1990-х годов американские электроэнергетические компании, активно стремившиеся к международной экспансии, готовы были платить за активы слишком высокую, как потом выяснилось, цену. К примеру, несколько предприятий по генерации и распределению электроэнергии в штате Виктория (Австралия) были куплены американскими компаниями, а затем проданы по сильно сниженной цене. Лишь в подобных исключительных условиях приватизация прибыльных государственных инфраструктурных предприятий, работающих на коммерческой основе, может быть финансово выгодна государству.
И хотя факты свидетельствуют о том, что приватизация, как правило, государству невыгодна, ее по-прежнему рекламируют в качестве решения краткосрочных финансовых проблем. В моем родном австралийском штате Квинсленд в качестве предлога для приватизации был использован бюджетный кризис. Публичное коллективное заявление, подписанное более чем 20 ведущими австралийскими экономистами (включая видных сторонников приватизации), в котором показывалась полная несостоятельность этой идеи, никак не остановило авторов проекта от публикации своих псевдоаргументов.
Известные примеры провальной приватизации
На протяжении более 30 лет приватизация оставалась центральным звеном идеологии рыночного либерализма. За это время накопилось довольно много неудачных случаев приватизации, чтобы можно было трезво оценить, когда таковая имеет хорошие шансы на успех, а когда нет. Несколько примеров, приведенных ниже, свидетельствует, что помимо неудачного стечения обстоятельств и ошибок отдельных менеджеров, есть ряд типичных случаев, в которых приватизация наталкивается на преграды.
В железнодорожной отрасли приватизация каждый раз порождала те или иные проблемы. В Великобритании последним крупным объектом, который успело приватизировать правительство консерваторов, пребывавшее у власти в 1979–1997 годах, были железные дороги. Система железнодорожного транспорта была разделена на две части. Владение и управление железнодорожным полотном было закреплено за отдельной компанией Railtrack. Управление подвижным составом было предоставлено нескольким региональным компаниям. К 2000 году успел произойти целый ряд сокрушительных неудач, и правительство Блэра было вынуждено вернуть Railtrack под контроль государства. В настоящее время сильна неудовлетворенность частными операторами подвижного состава, и крупнейший из них, East Coast main line, был вновь национализирован в ноябре 2009 года. Частично приватизированное лондонское метро снова стало государственным в 2008 году. В Новой Зеландии железнодорожная сеть и управление поездами также отошли обратно к государству в 2003 году.
В отрасли телекоммуникаций приватизация также имела, мягко говоря, неоднозначные результаты. В большинстве случаев бывшие государственные монополии сохраняли свою рыночную власть. А конкуренция, на благотворный эффект которой рассчитывали, долго не возникала. Приватизированные компании делали капиталовложения для поддержания своей рыночной власти, а не ради улучшения качества услуг для клиентов. В Австралии лейбористское правительство во главе с Руддом, избранное в 2007 году, объявило о создании Национальной широкополосной сети (NBN), которая должна была, по крайней мере на первоначальном этапе, быть государственной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу