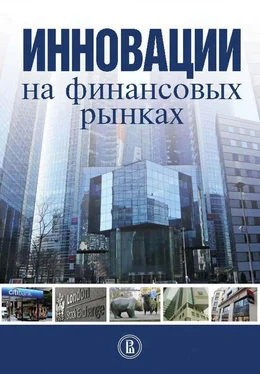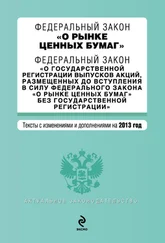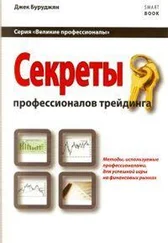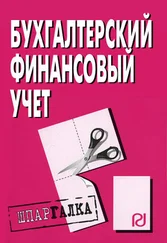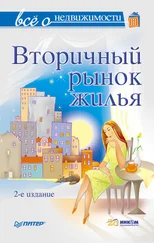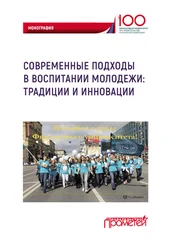Есть и другие предложения по реформированию финансового сектора. Дж. Каприо [Caprio, 2009] предлагает неожиданный взгляд на возможную реформу финансового сектора. Автор исходит из того, что прошедший кризис был связан с неправильной оценкой рисков, которые рассчитывались на основании внутренних моделей банков или рейтинговых агентств. При этом оценка риска базировалась на нормальном распределении. Разрешение банкам использовать забалансовое финансирование позволило обходить требования относительно минимальной доли собственного капитала. Это привело к тому, что банки получили возможность иметь очень высокий финансовый рычаг и необоснованно высокие риски. Поэтому прошедший кризис, по мнению автора, – кризис информации и стимулов. В качестве вывода предлагается создать систему регулирования, которая бы могла подстраиваться под серьезные изменения на рынке и сочеталась с высоким уровнем самодисциплины у самих участников рынка. Кроме того, необходимо наладить раскрытие информации самими участниками, чтобы рынок сам мог мониторить участников и их риски. И для этого возможно создание финансовых стимулов для работников регулятора и финансовых институтов.
На фоне реформы финансового сектора встает вопрос о координации национальных регуляторов на локальном уровне и повышении их координации на мировом уровне. О последнем мы уже говорили. Но неясным остается вопрос о координации на национальном уровне. Для примера можно рассмотреть американскую и британскую систему регулирования. Американская система регулирования длительное время оставалась сегментированной, т. е. предполагала наличие многих регуляторов, отвечающих за тот или иной сектор финансовой экономики. Недостаточность координации усилий разных регуляторов привела к повышению во время кризиса функции Федеральной резервной системы. Во многом противоположна система регулирования в Великобритании, где на базе саморегулируемых организаций участников рынка был создан мегарегулятор – Financial Services Authority (FSA) – орган, в ведении которого находились надзорные функции за всеми участниками рынка, в том числе и за банками. Банк Англии оставался только «ночным сторожем», т. е. отвечал исключительно за регулирование денежного рынка. По типу FSA мегарегуляторы были созданы в Германии, Франции и Японии. Но прошедший кризис показал ограниченность такой модели. Дело в том, что в условиях финансового кризиса главным действующим лицом на рынке стал орган, способный предоставить ликвидность. А у мегарегулятора есть только надзорные функции. Кроме того, вызывает сомнение качество надзора со стороны мегарегулятора за финансовым состоянием банков Великобритании. Очевидно, что реформа будет продолжаться в направлении снижении возможностей для «регулятивного арбитража» как на национальном, так и на международном рынке.
По мере осуществления финансовых реформ надо оценить экономическую цену реформ. Исследования показывают, что принятый в 2002 г. акт Оксли – Сарбайнеса привел к повышению привлекательности рынка для частных инвесторов, но одновременно усилил издержки компаний по раскрытию информации. Это привело не только к тому, что часть американских компаний вынуждена была отказаться от статуса публичных, но и к значительному оттоку иностранных инвесторов и эмитентов на зарубежные рынки. В частности, именно в этот период Лондон стал крупнейшим международным торговым центром, лидером по торговле депозитарными расписками и объемам первичных публичных размещений. Другими словами, первая угроза «сильного закручивания гаек» связана с возможностью ухода ликвидности на другие рынки. А между тем на мировом рынке капитала продолжаются процессы консолидации, в том числе в сфере инфраструктуры финансового рынка. В конце октября 2010 г. было объявлено о поглощении Сингапурской биржей крупнейшей в Азии торговой площадки – Австралийской биржи (Australian Securities Exchange – ASX). Азиатские рынки становятся прямыми конкурентами развитых за привлечение капитала.
Другим не менее негативным последствием проведения финансовых реформ может стать увеличение стоимости капитала на рынке. В условиях Великой модернизации стоимость заимствования на долговом рынке и стоимость собственного капитала снижалась, что привело к резкому повышению уровня левериджа на рынке. И до сих пор процесс делевериджа не завершился. Но обратный процесс – резкий рост стоимости привлечения капитала – негативно может сказаться на функционировании мировой экономики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу