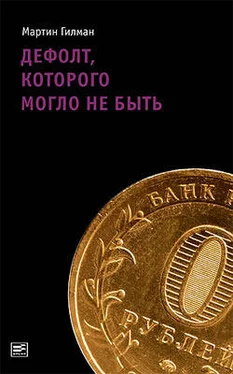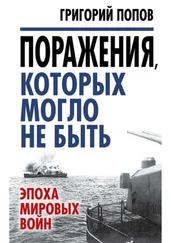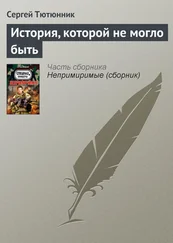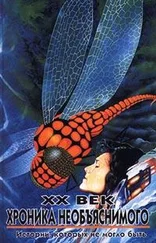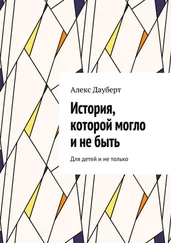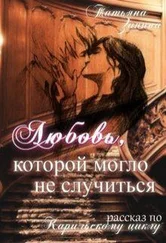О проблемах своей страны Путин говорил жестче, чем даже самые ярые критики России на Западе. Он заявлял, что на карту поставлено само существование России и что в случае распространения чеченского сепаратизма на всю Россию угроза дезинтеграции станет вполне реальной [230] . Он практически не скрывал своего презрительного отношения к растерявшим и власть, и доверие руководителям государства. Он признавал, что в стране царит бедность, и отмечал, что по подушевому ВВП Россия находится среди беднейшей половины стран мира.
Для преодоления всех этих бед Путин предлагал простой рецепт: России необходимо укрепить государство и тем самым обеспечить выживание страны, а также восстановить способность правительства добиваться соблюдения законов и исполнения принятых решений. Главная же задача следующего поколения россиян – восстановление экономики. Путин и его советники считали, что потребуется именно столько времени, что на решение этой задачи уйдет жизнь как минимум одного поколения.
Путин утверждал, что Россия сможет преодолеть бедность и экономический спад только за счет интеграции в глобальную экономику и связанные с ней учреждения, в том числе МВФ, ВТО, а также за счет выхода на глобальные ранки капиталов. Он писал: «…мы вышли на магистральный путь, которым идет все человечество. Только этот путь, как убедительно свидетельствует мировой опыт, открывает реальную перспективу динамичного роста экономики и повышения уровня жизни народа. Альтернативы ему нет». Наконец, Путин откровенно заявлял, что для вхождения в глобальную экономику и привлечения иностранных инвестиций России необходимо идти на сотрудничество с Соединенными Штатами и с западными странами, но не жертвуя, конечно, при этом своими жизненными интересами. Причем говорил Путин все это более чем за полтора года до трагических событий 11 сентября 2001 года.
Однако с точки зрения конкретных политических шагов получить убедительное впечатление о Путине было еще трудно. За исключением решения о создании Центра стратегических разработок во главе с Германом Грефом и нашумевшего указа о защите Ельцина и членов его семьи от любых преследований, связанных с его деятельностью в должности президента, Путин на первых порах не предпринимал никаких серьезных мер и вообще старался избегать жестких решений. Этот своеобразный политический застой продолжался до лета 2000 года.
При благополучном состоянии экономики и в неясных политических условиях переходного периода бывшие министры (большинство из которых вошли в новое правительство и были в мае утверждены) всю первую половину года в основном ничего не делали, просто ждали. Пары примеров будет достаточно, чтобы проиллюстрировать ситуацию и заодно показать изменения, которые тогда происходили в отношениях между МВФ и Россией и о перспективе которых тогда еще вряд ли кто имел ясное представление (это сегодня очевидно, что оброненные Чубайсом в 1997 году в Гонконге слова о «полюбовном разводе» между Россией и МВФ начали с некоторым запозданием сбываться).
10 января 2000 года Касьянов вышел из кабинета Путина в Доме правительства в должности единственного первого заместителя премьер-министра, то есть фактического главы правительства. И для него самого, и для большинства наблюдателей это решение стало полностью неожиданным. Так случилось, что когда Касьянов вернулся от Путина к себе в Минфин, первый, с кем у него была назначена встреча, был я. Он попросил, чтобы МВФ, не афишируя, помог ему и дал предложения относительно приоритетов, которые следует обозначить в экономической программе нового правительства.
Как и многие другие, Касьянов много раз видел, как выдвигались и умирали скорой смертью разные грандиозные планы, и потому не очень верил, что комиссия Грефа сможет предложить конкретные, согласованные между собой меры для решения важнейших текущих задач. Через несколько недель, уже в начале марта, Касьянов вернулся к своей просьбе, поскольку вроде бы получил подтверждение, что именно он будет руководить правительством после выборов. На этот раз он просил практических советов МВФ по реструктуризации банковской системы, валютному контролю и управлению государственным долгом (в этом контексте возникал и вопрос о том, что делать с ВЭБом). Касьянов, естественно, обращался за советами и к другим экспертам внутри страны, например к Институту экономики переходного периода Егора Гайдара, а также за рубежом, в том числе ко Всемирному банку. Активно консультировалась с этими и другими экспертами и рабочая группа Грефа, реорганизованная в Центр стратегических разработок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу