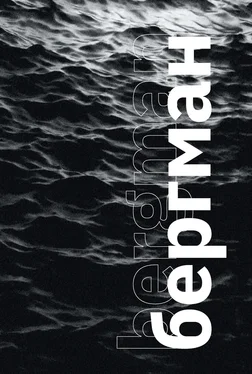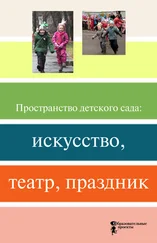Читая «Опоздавших на паром» на этом уровне, кажется, что Дрейер адаптировал авторский язык к актуальной лексике. Оперируя прежде образом «целости» (так было в «Страстях», «Вампире» и «Слове»), в этот раз он описывает двоичную, оппозиционную модель мира. На самом деле это не так. Если помнить, что индивидуальный стиль предшествует кинограмматике, «Опоздавшие на паром» превращаются в одну из самых лаконичных формулировок дрейеровского credo.
Все зависит от того, как Дрейер снимает движение. При внимательном рассмотрении обнаруживается, что на протяжении всего фильма его камера занимает три фиксированные позиции по отношению к динамичным объектам. В первой из них аппарат установлен так, что поступательное движение видно в двумерной проекции экрана – так организован городской проезд кавалькады, с этой точки зрения зритель видит остановку у бензоколонки, железнодорожный переезд и разворот мотоцикла на развилке. Эта точка зрения присутствует и в сцене обгона катафалка – соревнование людей и смерти показано сбоку, так что видны упорные попытки мотоциклиста опередить автомобиль. Второй ракурс условно назовем «субъективным». Хотя прямого указания на источник взгляда Дрейер не дает, понятно, что мелькание деревьев и пожираемое колесами полотно дороги увидены глазами героев, упоенно накручивающих километры. И, наконец, третья и самая главная позиция аппарата организована по оси глубинной проекции экрана и, в свою очередь, осуществлена с движения. За счет синхронизации скорости мотоцикла и операторской машины Дрейер добился эффекта неподвижности объекта – придорожный пейзаж бежит вспять, но крупность героев не меняется, они как будто остаются на месте. Точно так же их снятые сбоку портретные планы исключены из динамики предметного окружения. Мы видим профили на фоне неба и только по напряженным позам героев делаем вывод, что они мчатся с сумасшедшей скоростью.
Если расшифровать этот кинотекст авторским ключом, становится понятно, что сакральная модель мира выстраивается здесь через оптическую дефиницию движения. Столь важные для Дрейера категории предопределения и личного выбора переданы через динамику. Реальное движение, то есть зримое преодоление пространства, возможно только в присутствии стража Смерти (проезд по городу) или в ситуации, чреватой выбором (сцены у бензоколонки, железнодорожный переезд и развилка). Движение обретает поступательность, и в сцене финального обгона – состязаясь с водителем катафалка, мотоциклист приближается к смерти. Хоровод деревьев и строений дан в субъективном ракурсе – иллюзия перемещения сопровождает героев, в то время как они остаются на месте (о сознательности такого приема свидетельствует хотя бы то, что видно, как в одном месте Дрейер обрезает план, едва мотоциклист закладывает вираж и оказывается в непредусмотренной боковой проекции). В кадрах эпилога траектория взгляда меняется. Горизонтальные композиции уступают место верхним и нижним ракурсам. В вертикальном, истинном мире «беспечные ездоки» уплывают по водам вечности.
Истинный мир у Дрейера статичен и бесконфликтен. Благодаря взгляду камеры, зрители с самого начала получают все необходимые знамения – таким образом, отказываясь от драматического саспенса, Дрейер противополагает ему саспенс, так сказать, религиозный, который, в свою очередь, не формирует ни коллизии, ни напряжения, потому что его нити находятся в руках совсем иных сил. Мотоциклист и его спутница выбирают гонку и погибают, но, пожалуй, мы не сможем окончательно утверждать, где пролегает граница между их собственной волей и роковой закономерностью.
Статичный мир Дрейера у Бергмана становится конфликтным. В «Причастии» он рассказывает историю провинциального пастора, усомнившегося в Боге, живущего во грехе и в конце концов не способного предотвратить самоубийство одного из своих прихожан. Герои Дрейера опаздывают на паром, Томас Эрикссон опаздывает к душе страждущего. В финале дрейеровского фильма мы издалека видим одинокую фигуру над дуговыми перилами корабельного мостика, у Бергмана герой с мучительным торжеством сознает собственную богооставленность.
Говоря о «Причастии», Бергман заметил, что фильм строится на двух мотивах. Один из них – религиозный, другой – любовная драма. Оба мотива встречаются в образе любовницы Томаса Мэрты. Именно она – средоточие страстей, терзающих героя [7] Цит. по сб. Ингмар Бергман. М., 1969. С. 279.
. В первой же сцене «Причастия» мы видим Томаса, проповедующего в церкви, и Мэрту, сидящую среди прихожан. Коллизия фильма еще не определена драматургически, но уже «сделана» камерой, обозначающей за счет движения и статики силовые поля грядущего конфликта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу