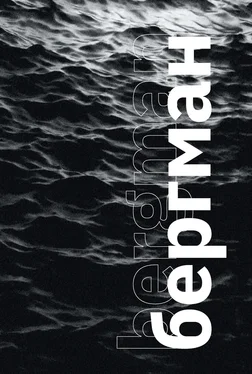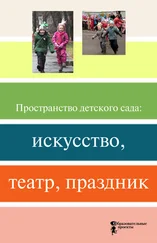Русское мышление способно на любые обольщения и в высшей степени склонно принимать речи антихриста за Божественный Логос; однако даже в сочинениях наших первостатейных эгоцентриков всегда будет поиск того, что Чехов в «Скучной истории» назвал «общей идеей или Богом живого человека» – таков, скажем, Бердяев. Комфорт прибалтийского эгоцентризма – комфорт заключается в искренности, истинности существования, отказе от высокопарной лжи, честности экзистенции, как честны даже в своем аморализме милые буржуи из «Фанни и Александр» – не сможет быть поводырем в приключениях нашего художественного самосознания. Как бы ни ловил наметанный глаз бергмановское молчание, бергмановскую задумчивость, бергмановскую графику лиц, бергмановскую почти шахматную точность в расстановке фигур, бергмановские мучения от близости Другого, бергмановский лаконизм жеста – в фильмах Муратовой, Авербаха, Панфилова, Тарковского, Хейфица и других, – нельзя не задуматься о парадоксах влияния чего бы то ни было на русских художников…
А что же другая сторона вопроса – Бергман и Россия? Кажется, он любил Чехова. И однажды поставил «Бесприданницу».
1996

Ирина Цимбал. Прощание с театром в присутствии кино
С середины 1990-х Бергман начал подводить итоги, навсегда, казалось, прощаясь с театром и кино. Один за другим возобновлял старые спектакли – уточнял, укрупнял, переставлял акценты, менял актерский состав. Ставил почти заново.
Третью редакцию «Мизантропа» посвятил Ариане Мнушкиной, внесшей неожиданные обертона в его мольеровидение после фильма «Мольер», о чем режиссер уведомил зрителей в программке 1995 года. Пьесу-фарс Витольда Гомбровича «Ивонна, принцесса Бургундская» поставил вторично с большим сарказмом и размахом театральной многокрасочности. В третий раз – после оперной версии на музыку Даниэля Бёртца (1991) и одноименного телефильма (1993) – обратился к «Вакханкам» Еврипида (1996). Одна из двух последних трагедий великого грека удачно рифмовалась с раздумьями о трагизме человеческого удела режиссера, завершающего длинный путь. Критики соблазнялись этой «рифмой»: последняя трагедия Еврипида могла прозвучать итоговым посланием Мастера перед его окончательным отбытием на Форё, чтобы закрыться в своем кинотеатре и по мере сил держать оборону в борьбе с утренними демонами.
Но это случится еще нескоро.
На роль юного и дерзкого бога Диониса, провокатора и вдохновителя кровавых экстатических забав, режиссер пригласил начинающую актрису Элин Клинга. Тогда-то и зародилось смутное предчувствие, что золотоволосой и длинноногой исполнительнице уготовано что-то еще в тайниках режиссерских замыслов. Старейшина критического цеха Лайф Зерн из «Дагенс нюхетер» пророчил молодой актрисе блестящее будущее на любом поприще, хотя сам режиссер сознавал, что идет на риск. Бог-андрогин соблазнял анархией и вспенивал неостановимый поток жизни, бьющий через край ее беспощадного и насыщенного напряжения. Заочный философский спор Диониса, с рассудочной мудростью прозревающего очередной виток истории Кадма, озарял трагедию надеждой, но не убавлял ее трагизм.
В преддверии своего восьмидесятилетия режиссер выпускает на телевидении фильм «В присутствии клоуна». В основе – собственная пьеса Бергмана пятилетней давности с прямой отсылкой названия к монологу из «Макбета». Ни одна трагедия английского барда так не преследовала режиссера, не будоражила его воображение во сне и наяву, как история кавдорского тана. Буквальный перевод названия – цитата из монолога «Макбета», самого горького из шекспировских прозрений о жизни и смерти: «Жизнь – только тень, она – актер на сцене. Сыграл свой час, побегал, пошумел – и был таков». Бергман вкладывает в слова Макбета дополнительный смысл. Эфемерность актерских созданий сродни эфемерности самой жизни. «Макбета» Бергман ставил трижды, начиная с театров Хельсинборга и Гетеборга, где он превратил трагедию в ученический полигон, «списывая» театральные приемы, по откровенному признанию, у Улофа Муландера и Альфа Шёберга. Но макбетовские призраки не оставляли его.
«Как-то поздно ночью я возвращался из театра и вдруг сообразил, как нужно сделать сцену с ведьмами в конце трагедии. Макбет и леди Макбет лежат в постели, она погружена в глубокий сон, он в полудреме. По стене лихорадочно пляшут тени, из-под пола в изножье кровати появляются ведьмы, сплетаясь в клубок, они перешептываются и хихикают, тела их извиваются, как водоросли в реке», – читаем мы на страницах «Латерна магика». Упоенный находкой автор нарочито микширует смежные искусства – театр и кино. Это его почерк, его установка: «То, что выглядит театральной пьесой, с таким же успехом может стать кинофильмом» («Монолог»). И наоборот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу