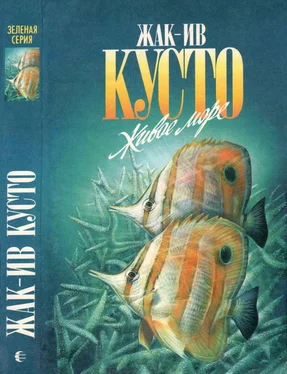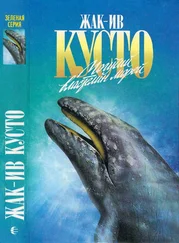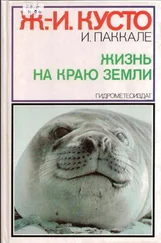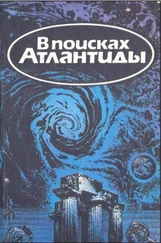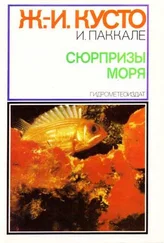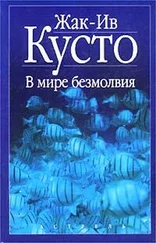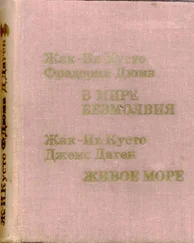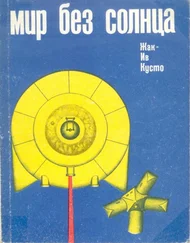Должен сразу сказать, что не рекорды нас манили, хотя во время этих опытов старые мировые достижения были превзойдены. Мы считаем, что очень важно вернуться живым из морской пучины; даже бесстрашный Диди знает чувство меры. Мы шли все дальше вглубь потому, что только так можно было исследовать глубинное опьянение и выяснить, какую работу позволяет выполнить акваланг на той или иной глубине. Каждый опыт тщательно готовился, аквалангисты погружались под строгим контролем, и мы получали абсолютно точные данные. Предварительные наблюдения позволили нам заключить, что предельная глубина для подводного пловца — триста футов, или пятьдесят саженей; между тем еще ни один пловец с автономным снаряжением не побил рекорд Дюма, равный двумстам десяти футам.
Глубину погружения измеряли канатом с борта «Эли Монье». Через каждые шестнадцать с половиной футов (пять метров) на канате были укреплены белые дощечки. Подводный пловец брал с собой химический карандаш, чтобы оставить свой автограф на дощечке, до которой доберется, и записать несколько слов о своих ощущениях.
Чтобы сберечь силы и воздух, аквалангист шел вниз без излишних движений, увлекаемый десятифунтовым балластом в виде железного лома. Замедлить спуск можно было притормозив рукой за канат. Достигнув намеченной или посильной для себя глубины, пловец расписывался, сбрасывал балласт и возвращался по тросу на поверхность. Чтобы избежать кессонной болезни, он делал короткие остановки на глубине двадцати и десяти футов, как этого требовала декомпрессия.
К началу опыта я пришел в отличной форме. Всю весну работал на море, и это было хорошей тренировкой; уши легко переносили давление.
Войдя в воду, я стал быстро спускаться, придерживаясь за канат правой рукой, сжимая балласт левой. В голове неприятно отдавался гул движка на «Эли Монье», снаружи ее сдавливал растущий столб воды. Был жаркий июльский полдень, но вокруг меня быстро темнело. Я скользил вниз в сумерках, наедине со светлым канатом, однообразие которого нарушалось только теряющимися вдали белыми дощечками.
На глубине двухсот футов я ощутил во рту металлический привкус сжатого азота. Глубинное опьянение поразило меня внезапно и сразу же очень сильно. Я сжал правую руку и остановился. Меня обуревало беспричинное веселье, все стало нипочем. Попробовал заставить мозг сосредоточиться на чем-нибудь реальном: скажем, определить цвет воды на этой глубине. Не то ультрамарин, не то аквамарин, не то берлинская лазурь… Отдаленный рокот не давал покоя, вырастая в оглушительный перестук, словно билось сердце вселенной.
Я взял карандаш и записал на дощечке: «У азота противный вкус». Рука почти не чувствовала карандаша; в уме проносились забытые кошмары. Я перенесся в детство: лежу больной в постели, и все на свете кажется мне распухшим. Пальцы превратились в сосиски, язык — в теннисный мяч, мундштук сжимают чудовищно распухшие губы. Воздух сгустился в сироп, вода стала как студень.
Я висел на канате совсем отупевший. Рядом со мной, весело улыбаясь, стоял другой человек, мое второе «я», оно отлично владело собой и снисходительно посмеивалось над невменяемым аквалангистом. Это длилось несколько секунд; потом второй человек принял командование на себя, приказал отпустить веревку и продолжать погружение.
Я медленно шел вниз сквозь вихрь видений…
Вода вокруг дощечки с отметкой двести шестьдесят четыре фута светилась сверхъестественным сиянием. Из ночного мрака я вдруг перешел в область занимающейся зари. Это отражался от грунта свет, который не поглотили верхние слои. Внизу, в двадцати футах от дна, висел конец каната с грузом. Я остановился у предпоследней дощечки и поглядел на последнюю, белевшую пятью метрами ниже. Пришлось напрячь всю умственную энергию, чтобы трезво, не обманывая себя, оценить обстановку. И я двинулся к нижней дощечке, привязанной на глубине двухсот девяноста семи футов.
Дно было мрачное и голое, если не считать моллюсков и морских ежей. Я еще достаточно соображал, чтобы помнить, как опасно резко двигаться при таком давлении, больше нормального в десять раз. Медленно набрав полные легкие воздуха, я расписался на дощечке, но не смог ничего написать о своих ощущениях на глубине пятидесяти саженей.
Итак, я достиг глубины, на какой еще не был ни один пловец с автономным снаряжением. В моем сознании удовлетворение уживалось с ироническим презрением по собственному адресу.
Читать дальше