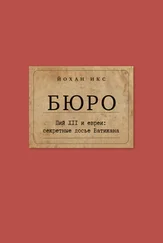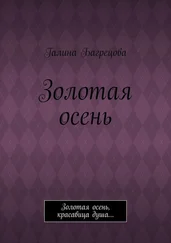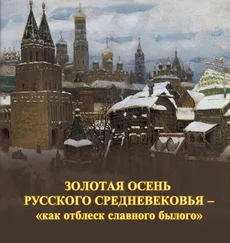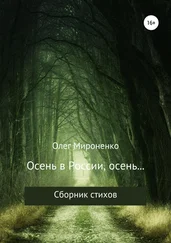Во времена Й. Хёйзинги была распространена гипотеза, по которой слово Macabre выводилось из Macchabées (фр. Маккавеи ) и связывалось либо с подробно описываемым в Библии мученичеством семи братьев Маккавеев и их матери Соломонии ( 2 Мак 7), либо со средневековыми представлениями о Маккавеях как покровителях мертвых. Эти представления основывались на упоминании в Писании о жертвах, которые Иуда Маккавей принес Яхве за своих соратников, павших в бою ( 2 Мак 2, 38–45). Ныне наиболее достоверной считается этимология, производящая это слово из арабского makbara [ усыпальница ] или из сирийского диалектного maqabrey [ могильщик ]. Выражения эти могли попасть во французский язык во время Крестовых походов.
Из обширной литературы на эту тему см.: Huet G. Notes d’histoire littéraire , III. Le Moyen Age, 1918. XX, p. 148; Stammler W. Die Totentänze . Leipzig, 1922.
Обо всём этом см. также: Mâle E. L’Art religieux а la fin du moyen-âge . II, 2: La Mort.
Laborde. Ducs de Bourgogne . II, 1, p. 393.
Несколько репродукций см.: Mâle E. Op. cit.; Gazette des beaux arts. 1918. Avril-juin, p. 167.
Из исследований (Huet. Op. cit.) становится очевидно, что хоровод мертвецов является тем исходным мотивом, к которому в Totentanz [ Пляске мертвых ] безотчетно обращается Гёте.
Прежде ее ошибочно относили к значительно более раннему времени (ок. 1350 г.). Ср.: Ticknor G. Geschichte der schönen Literatur in Spanien (первоначально по-англ.). Leipzig, 1867. I. S. 77; Н. S. 598; Gröber. Grundriß II 1, S. 1180; II 2, S. 428.
Œuvres du roi René, I, p. CLII.
Chastellain. Le pas de la mort . VI, p. 59.
Ср.: Innocentius III. De contemptu mundi . Н. Сар. 42; Dion. Cart. De quatuor hominum novissimis // Opera. XLI, p. 496.
Œuvres. VI, p. 49.
Chastellain. VI, p. 60.
Villon. Testament . XLI, vs. 321–328 / Ed. Longnon, p. 33.
Champion. Villon . I, p. 303.
Mâle E. Op. cit., p. 389.
Leroux de Lincy. Livre des légendes , p. 95.
Подобную галерею, полную черепов и берцовых костей, еще и сейчас можно видеть в относящемся к XVII в. приделе церкви в Трегастеле в Бретани.
Le livre des faits etc., II, p. 184.
Пале-Рояль – дворец в Париже с садом, окруженным аркадой. Построен в 1629 г. В аркаде размещалось множество лавок и ресторанов. Перед Французской революцией и во время ее был излюбленным местом гуляний и, одновременно, выступлений революционных ораторов.
В день Невинноубиенных младенцев (28 декабря) проводилась процессия детей, во главе которой ехал на осле молодой клирик, переодетый женщиной, что символизировало Бегство в Египет. Этот персонаж и именовался Innocent . Помимо того, этим же словом называли главу Праздника дураков (см. коммент. 4* к гл. XII и коммент. 3* к гл. XIX).
Journal d’un bourgeois . I, p. 233–234, 276, 392. Кроме того, см.: Champion. Villon . I, p. 306.
«Devine Depth of Sorrow» [«Божественная Глубина Скорби»] – выражение, встречающееся в произведении Томаса Карлайла (1795–1881) Sartor Resartus [ Перекроенный портной ], 1831. Герой Т. Карлайла, Диоген Тойфелсдрокх, совершает духовное паломничество, подобно Вильгельму Майстеру, герою знаменитого романа Й. – В. фон Гёте. Цитируемое выражение относится к тайне Страстей Христовых, которая не должна быть явлена бесстыдному миру, превращающему наидостойнейшее в низменное и пошлое. Выражением «divine depth of sorrow» ( German Romance [ Немецкий роман ], 1827) Т. Карлайл перевел слова «die göttliche Tiefe des Leidens» [«божественная глубина страдания»] ( Wilhelm Meisters Wanderjahre [ Годы странствий Вильгельма Майстера ], II Buch, II Kap.). – Коммент. пер.
A. de la Salle. Le reconfort de Madame du Fresne / Ed. J. Nève, Paris, 1903.
Burckhardt J. Weltgeschichtl. Betr ., l. Aufl. Berlin; Stuttgart, 1905, S. 97, 147.
Новый Год и День Мая (иногда 1 мая, иногда четвертое воскресенье Великого поста) в Средние века и позднее были днями нецерковных народных праздников, связанных с идеями обновления мира, с брачной символикой, с ритуальными ухаживаниями. Й. Хёйзинга подчеркивает здесь перенос обыденных любовных обрядов в религиозную сферу. Подобное явление корнями уходит в так называемую народную религиозность, то есть сочетание христианской веры с фольклорными и даже мифо-магическими представлениями. Из материалов процесса Жанны д’Арк известно, что она и ее подруги в День Мая плели венки и вешали их либо на майское дерево (дерево, вокруг которого водят хороводы в этот день), либо на статую Богоматери.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
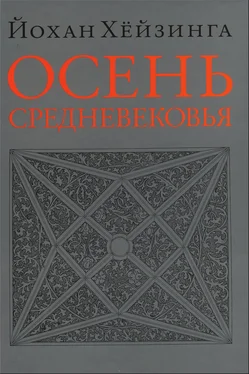

![Карл-Йохан Эрлин - Кролик, который хочет уснуть [Сказка в помощь родителям]](/books/405488/karl-thumb.webp)