Армия охраняла граждан от бандитов. Август и Тиберий держали военные гарнизоны (stationes) по всей Италии, чтобы ловить бандитов, – ведь бандитизм распространился еще шире в годы гражданской войны, что покончила с республикой [314]. В некоторых регионах солдаты охраняли дороги от бандитов, а также возводили сооружения, этакие пограничные посты, куда затем направляли воинские подразделения. В Киликии римляне постепенно (в III и IV веках) укрепили всю внутреннюю границу с исаврами [315].
Против больших банд или «бандитствующих народов» римские наместники и их чиновники вели локальные войны. Цицерон возглавил жестокую карательную экспедицию против бандитов, будучи наместником Киликии, и в ходе ее разрушал деревни и истреблял их жителей; в одном поселении взял заложников после длительной осады, но долгосрочного успеха не добился. Тацит упоминает новые походы на бандитов в регионе, предпринятые чиновниками наместника Сирии в 30-х гг. и в 51 г. [316]
Римские наместники и императоры порой пытались нейтрализовать бандитов, нанимая сами банды для наведения порядка или заманивая бандитов в армию, по отдельности или en masse [317]. Еще чаще римские командиры вступали с бандитами в переговоры. Так, Цицерон завязал дружественные отношения (hospitium, гостеприимство) с одним исаврийским вождем («тираном», по его словам); этот и иные виды «ритуализированой дружбы» являлись основными инструментами римской внешней и внутренней политики на закате республиканского периода и на протяжении большей части римской истории в целом. Цицерон, Помпей и Марк Антоний дружно признавали другого исаврийского вождя, Тарконтидмота, «другом Рима» или своим личным другом [318].
В крошечной горной провинции Мавритания Тингитана, на крайнем северо-западе Марокко, римские наместники заключили мирный договор с вождями горных племен; текст этого соглашения, выбитый на камне, представляет собой почти единственное письменное свидетельство римской политики в регионе. За пределами сильно милитаризованной зоны в равнинной местности римское культурное влияние почти не ощущалось, хотя эту область окружали старинные римские провинции. Ни один сохранившийся источник не называет население горной Мавритании бандитами, однако аналогия с Исаврией несомненна [319].
Как с бандитизмом, так и с повстанцами в целом: военный фактор играет важную роль, однако армия действовала в более широком контексте социальных отношений. Римская армия была оккупационной, захватнической и одновременно дружественной. Это было особенно верно в отношении провинций Испания, Британия, Мавритания (современное Марокко), Сирия, Палестина (после еврейского восстания 66 г.) и Египет. В этих провинциях армия располагалась в городских центрах или была рассеяна по всей области, а не сконцентрирована на границе (провинция Испания не имела границ, а граница Британии была очень короткой) [320]. Некоторые районы империи оккупировались интенсивно, в частности Иудея, очень маленькая территория, где располагались в начале II в. примерно 20 000 солдат, а в Мавритании Тингитане в воинском лагере квартировали 10 000 солдат; за пределами «военной зоны» римское влияние едва ощущалось [321]. В обоих случаях интенсивная оккупация доказала свою бесполезность. Гарнизоны в Иудее не смогли предотвратить восстание Бар-Кохбы или подавить эндемичный бандитизм в провинции, и лагерь в Мавритании Тингитане был заброшен в III веке.
Осложняло ситуацию то обстоятельство, что армия не выступала из центра на периферию, как подобало бы одному народу, доминирующему над многими другими, хотя император притязал на верховную власть везде и во всем. В I в. н. э. римская армия быстро превратилась из ополчения итальянских граждан-солдат в силу, набираемую по всей империи, а не преимущественно из Италии. Легионерами становились главным образом граждане провинций, в частности, из ветеранских колоний. Но эти колонии представляли собой отнюдь не изолированные, этнически обособленные сообщества; среди их граждан были и ветераны-поселенцы, и вольноотпущенники, и отдаленные потомки переселенцев или вольноотпущенников, смешавшиеся за многие поколения с местным населением. Потомки отставников из вспомогательных войск служили, вероятно, еще одним важным источником пополнения легионов. Вспомогательные войска, набиравшиеся исключительно из неграждан, были гораздо многочисленнее регулярной армии. Увольняясь после десятилетий службы, эти солдаты приобретали римское гражданство и пенсию и, как правило, селились в тех регионах, где стояли их части. Таким вот образом армия Рима пополнялась за счет подданных империи [322].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
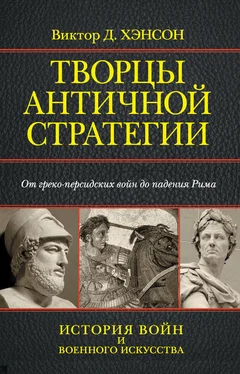





![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)





