Большая часть провинции выплачивала одну десятую урожая зерновых в качестве налога. Право собирать налоги на Сицилии было продано местным; это было (или, по крайней мере, воспринималось) «как раньше», при последнем царе Сиракуз Гиероне II, что правил во время двух первых Пунических войн. На протяжении своих долгих речей Цицерон не раз с почтением упоминал «закон Гиерона» как институт, неуважение к которому обернулось дурным правлением. Кроме того, пять городов освободили от пошлины; два расплачивались самостоятельно, без договоров, а соглашения по сбору повинностей с некоторых городов продавались в Риме, на условиях, для них менее выгодных [329]. При этом условия соглашения каждой общины с Римом отражали обстоятельства ее участия в Первой Пунической войне и в последующих конфликтах либо ее отношение с римскими покровителями. Семейство Клавдиев Марцеллов и сам Цицерон считали себя покровителями острова в целом; Цицерон называл сицилийцев «союзниками и друзьями римского народа и своими близкими». Отдельные города, такие как Сегеста, Сиракузы и Мессана, имели тесные отношения с аристократическими семействами [330]. Представители эллинизированной сицилийской элиты также пользовались покровительством римских сенаторов, что стало очевидно в ходе судебного разбирательства; одной из наиболее часто упоминаемых форм покровительства было гостеприимство (hospitium). Особенно показательно, что улики против Верреса были получены при перекрестном допросе его «гостя», Гавия из Мессаны, и что Веррес сам несправедливо осудил другого своего «гостя», Стения из Ферм [331].
На Сицилии не было римской армии. Когда Верресу требовался «карательный отряд» для осуществления очередного вымогательского плана, он призывал рабов-охранников из местного храма Афродиты в Эриксе, чьи обязанности вообще-то заключались в охране храмовой казны [332]. Он брал взятки от местных купцов и от враждующих аристократов, которые отправляли своих врагов на его суд [333]. Взыскуя справедливости, сицилийцы слали гонцов, а города отправляли делегации в Рим, умоляя покровителей в сенате о защите, ибо только сенат мог приструнить Верреса [334]. Правление Верреса было коррумпированным и хищническим, но крепкие связи внутри и за пределами Сицилии позволяли ему выходить сухим из воды. Цицерон не упоминал о каких-либо восстаниях и характеризовал сицилийцев патерналистски, как послушный и по-детски доверчивый народ [335]. Более правдоподобным объяснением низкого уровня недовольства на Сицилии в эпоху Цицерона – если верить этой характеристике – будет плотность отношений и связей между местным правящим классом и римской аристократией, плотность, которую речи Цицерона прекрасно иллюстрируют.
Что же тогда называть мятежом, а что – контртеррористическими действиями? Одна точка зрения предлагает трактовать мятежи, сопротивление и бандитизм как следствия «дыр» в сети социальных отношений, что связывали империю воедино, вместе с сенаторской аристократией и императором. В ряде случаев один «узелок» – местный царек, римский аристократ, командир вспомогательного отряда – мог перенаправить узы в новом направлении, создавая новый набор связей, наперекор доминирующему. Международные отношения, местная политика и внутреннее соперничество римского правящего класса – все это работало заодно.
Римляне вели переговоры с мелкими царьками, вождями племен, бандитами и кочевниками [336]. Они платили выкупы и заключали соглашения. Они предоставляли гражданство, имена и военную поддержку. Они формировали бесконечное множество личных связей, что сплетали в сеть интересы римского правящего класса, местной аристократии и бандитов. Если «социальные сети» не помогали, как часто бывало, римляне правили силой. Они оккупировали территории, в некоторых случаях очень плотно. Они вели крупные войны против повстанцев и гордились, побеждая тех за счет превосходной дисциплины, доблести и лучшего оснащения. Они направляли против бандитов патрули, отряды, а иногда и целые армии. Они терроризировали мятежные регионы суровыми репрессиями. Насколько были действенны последние, сказать сложно. Римская империя просуществовала долго, но не знала периода, свободного от мятежей и бандитизма. Впрочем, речь не об эффективности или неэффективности римской армии; важно, что военный аспект мятежей и их подавления и самой империи является лишь верхушкой айсберга. Римляне правили потому, что их социальные отношения проникали повсюду – во всяком случае, далеко. Этими отношениями мог манипулировать кто угодно. Создание сети напряженных и динамичных отношений, все участники которой активно преследуют собственные интересы – сеть с пробелами и дырами, имеющая также «подсети», слабо связанные с основной, – возможно, таков наиболее точный и показательный способ описания империи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
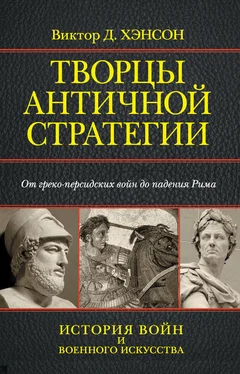





![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)





