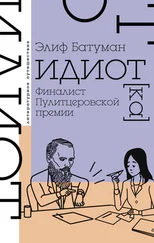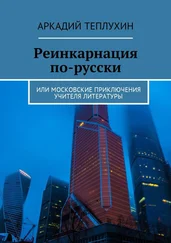И повар ему вторит:
Не порицай медового пряника, о чистая лепешка,
Потому что тесто его не станут замешивать
на твоих дрожжах.
Наш самолет вылетал из Ташкента в четыре утра. Мы были мрачны, напряжены, взбудоражены. То, чем занимался Эрик, он называл «брейкдэнс, черт, какой-то». В аэропорту нас восхитили светящиеся таблички «Пожарный выход» с белой убегающей фигуркой из палочек. Счастливо тебе покинуть горящий аэропорт, маленький человечек!
Когда самолет набирал высоту, небо только начинало менять цвет с черного на темно-синий. Редкие автомобильные фары, ползущие вдоль пустынных дорог, уменьшались, тускнели и вскоре исчезли. Через шесть часов и много тысяч миль мы сквозь свинцовые тучи пошли вниз. Под покрытыми инеем иллюминаторами, словно гигантская шахматная доска, стали разворачиваться квадратные зеленые поля, утыканные тут и там крошечными фермерскими домиками. Мы скользили все ближе и ближе к земле, едва не задевая по касательной сам Франкфурт – родину критической теории и междисциплинарного материализма – с его серебристой рекой, старыми соборами и черным глянцевитым обелиском, где проводят книжную ярмарку.
Я никак не противилась обстоятельствам, которые тем летом привели меня в Самарканд, поскольку полагала, что писателю никогда не вредно познакомиться с экзотическими местами и литературами. И тем не менее о Самарканде я ничего не писала – и довольно долго. Соответственно, я о нем почти и не думала. Это как елочное украшение без елки, его попросту некуда повесить.
Лишь спустя несколько лет я вдруг вспомнила об этом аномальном эпизоде из своего прошлого, читая «Путешествие Онегина», вырезанную главу из пушкинского романа; она задумывалась как мост между главами 7 и 8 – те три года, в течение которых Татьяна превращается в московскую знатную даму, а Онегин странствует по России и Кавказу, стараясь забыть, что убил человека. Никто не знает, каким был первый вариант «Путешествия», поскольку Пушкин сжег рукопись, опубликовав лишь фрагменты, которые включались в позднейшие издания «Онегина» в виде примечания или приложения после главы 8. Известно, что Пушкин переписал их в 1829 году, сразу по возвращении из своего «путешествия в Арзрум». Во время той поездки Пушкин вернулся в края, где впервые побывал в двадцать один год, работая над «Кавказским пленником». Но нынче все по-иному: «Какие б чувства ни таились тогда во мне – теперь их нет: они прошли иль изменились…» Пушкину уже исполнилось тридцать.
Я начала понимать, почему мне было так трудно написать о том лете в Самарканде, которое – несмотря на все атрибуты нового начала, экзотического приключения – подвело все же некую итоговую черту. Оно – нечто вроде постороннего приложения, приобретающего смысл лишь позднее, в неправильном временном порядке – как сохранившиеся фрагменты «Путешествия», которые публикуются в «Евгении Онегине» как примечание после финальной главы.
Вернувшись из Самарканда, я почти полностью лишилась способности воспринимать поэзию. Она стала языком, на котором я разучилась говорить. Раньше мне доставляло удовольствие именно ощущение полупонимания, ощущение, которое усиливается, как заметил Толстой, когда читаешь стихи на иностранном языке: «Не вникая в смысл каждой фразы, вы продолжаете читать, и из некоторых слов, понятных для вас, возникает в вашей голове совершенно другой смысл, правда, неясный, туманный и не подлежащий выражению слов, но тем более прекрасный и поэтический. Кавказ был долго для меня этой поэмой на незнакомом языке; и, когда я разобрал настоящий смысл ее, во многих случаях я пожалел о вымышленной поэме и во многих убедился, что действительность была лучше воображаемого».
После Самарканда красота туманных поэтических смыслов, вызванных в воображении ассоциациями и полупонятыми словами, красота вещей, которые остаются за полями страницы, почему-то утратила для меня очарование. Начиная с того момента меня стали интересовать только толстые романы. Я принялась за диссертацию о толщине романов, о том, как они поглощают время и ресурсы. И хотя, полагаю, это просто так совпало, что Толстой сравнил субъективные красоты полупонятной поэзии именно с Кавказом, я тем не менее тоже со всем этим покончила – с Кавказом, с русским Востоком, с периферийными литературами.
Вновь начались занятия, бесконечный цикл семинаров и кофе, кофе и семинаров. Люба провела лето, изучая в Петербурге жизнь княгини Дашковой, а Матей в Берлине занимался чем-то вроде топографического исследования по Вальтеру Беньямину. Это города с архивами, университетскими изданиями, библиотеками – города, где студенты изучают книги, а не «жизнь». И они правы, эти студенты: ну посмотрела я жизнь, и что мне это дало? Некоторое время на факультете ходила шутка, что я провела два месяца в Самарканде, напряженно изучая любовную лирику Тимуридов, но вскоре все про это забыли, включая меня. Я была занята преподаванием начального русского и чтением Бальзака. Я все больше времени проводила в кампусе, возвращаясь в Маунтин-Вью только на ночь. Зимой, вскоре после Нового года, я оттуда съехала. Самарканд стал для нас с Эриком последней совместной поездкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
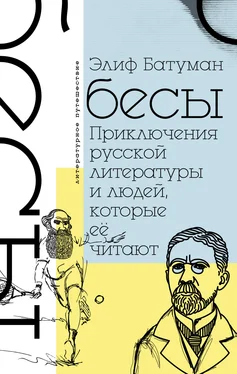
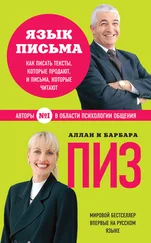
![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/413334/elif-batuman-idiot-litres-thumb.webp)