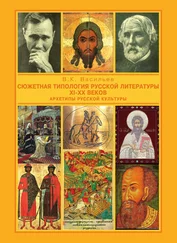Подобный прием можно найти и в некоторых романах. Толстой создает чудесные, захватывающие семь частей книги об адюльтерной любви, а затем бросает Анну под поезд и создает восьмую, где Вронский уезжает в Сербию воевать с турками (роман растворяется в исторической теме), а Лёвин возвращается к себе в имение и обретает там Бога (роман растворяется в духовной медитации). Аналогично и у Томаса Манна, который сначала пишет тысячу страниц о декадентской теплице на Волшебной горе, а потом уравновешивает свой баланс рассказом о том, как Касторп, выведенный из ступора Первой мировой войной, отправляется из санатория на фронт. В окопе, перед лицом вероятной смерти, Касторп падает на колени, «подняв глаза и руки к небу, – хоть и сернисто-серое, оно уже не было сводом над греховной горой [наслаждения]».
«Свод над греховной горой наслаждения» – разве это не то, что увидели над собой шуты на ледяном ложе? Дворец Анны – уродливая кристаллизация той мучительной тревоги, что заставляет писателей от Купера до Толстого и Манна сводить на нет свои самые увлекательные страницы, тревоги о том, что литература – искусство, требующее времени и уединения больше, чем какое-либо другое из искусств, – есть нечто непоправимо тщетное, бесполезное и аморальное. Ледяной дворец – это как первая часть книги о перерождении, где второй части попросту нет. Анна сама напоминает одного из Манновых «проблемных детей» – отпрыск ослабшей династии, которого испортили кукольные представления, чувственная любовь и смутно усвоенные знания из зоологии, – и она никогда не повзрослеет. На своей Волшебной горе она никогда не скинет с себя эти колдовские чары. Она так там и умрет в окружении шутов и санитаров.
Воплощенная в Ледяном доме негативная литературная фантазия самого жуткого пика достигает в судьбе придворного поэта и классициста Василия Тредиаковского, одного из наиболее знаменитых персонажей эпохи Анны Иоанновны.
Накануне свадьбы кабинет-министр Анны заказал Тредиаковскому матримониальную оду, которая должна была прозвучать во время этнографического парада. Поэт еще даже не успел закончить работу, когда министр – по не дошедшим до потомков причинам – вызвал его к себе и избил тростью до бессознательного состояния. Проведя ночь в темнице, Тредиаковский тем не менее завершил оду и даже лично прочел ее на свадьбе, надев итальянскую карнавальную маску, дабы скрыть следы побоев. Несмотря на столь грандиозные доказательства профессионализма, коими мог бы гордиться любой литератор, его снова бросили в камеру и вновь подвергли избиению до полусмерти. Когда, еле дыша, Тредиаковский вернулся на следующий день домой, первое, что он сделал, – подписал завещание, оставляя свою библиотеку Академии наук.
Умри Тредиаковский от побоев – он сделался бы трагической фигурой. Но он прожил еще двадцать пять лет, оставаясь объектом постоянных насмешек.
Сама его склонность к приятию физического насилия стала сюжетом для анекдотов; даже Пушкин писал, что Тредиаковскому «не раз случалось быть битым». У Лажечникова Тредиаковский хвастается аудиенцией у Анны Иоанновны, где «государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшею оплеухою».
Говорят, что Тредиаковский написал ровно сто книг, скука которых могла довести до удара. «На песнь „Прости, мой свет“ я сочинил критику в двенадцати томах in folio», – говорит персонаж одной комедии 1750 года, написанный с Тредиаковского. Ледяной дворец плюс Тредиаковский – можно ли вообразить более живую иллюстрацию пафоса графомании? «Считалось ужасно смешным, что Тредиаковский дважды перевел тринадцатитомную „Древнюю историю“ Роллена и его же трехтомную „Римскую историю“, поскольку первый перевод погиб при пожаре в его доме в 1747 году», – отмечает Ирина Рейфман, которая написала целую книгу о моде высмеивать Тредиаковского.
Тредиаковский был еще известен ненавистью к своему столь же тоскливому сопернику, ученому и стихотворцу Михаилу Ломоносову. Последнему некорректно приписывают литературные достижения Тредиаковского – в том числе разработку русского гекзаметра. Тезис Рейфман состоит в том, что в мифе о создании русской грамматики Ломоносову отводится роль героя-основателя, в то время как Тредиаковский – «близнец-дурак» или «тупой демонический двойник».
Однако в ретроспективе избиение Тредиаковского приобрело трагические и пророческие черты. Вот что писал поэт начала двадцатого века Ходасевич:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
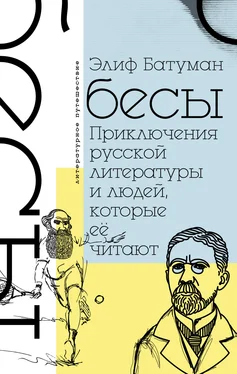

![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/413334/elif-batuman-idiot-litres-thumb.webp)