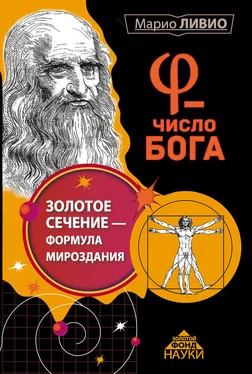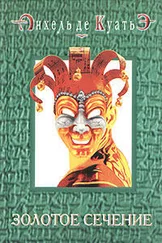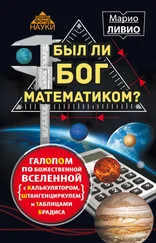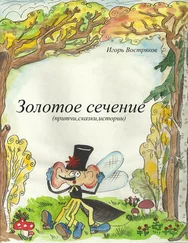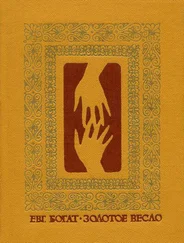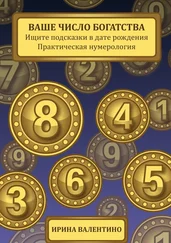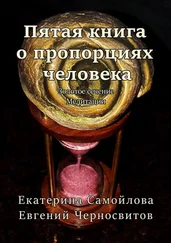Золотое сечение в принципе могло бы повлиять на то, какое удовольствие мы получаем от музыкального произведения, если учесть концепцию пропорционального равновесия. Однако положение дел здесь несколько сложнее, чем в изобразительном искусстве. Неудачная композиция картины сразу бросается в глаза. С другой стороны, в музыке нужно выслушать произведение с начала до конца, а потом уже делать выводы. Тем не менее не приходится сомневаться, что опытные композиторы строят свои произведения так, чтобы не только разные части прекрасно гармонировали друг с другом, но можно было оценивать и каждую часть в отдельности – она служит сама себе мерилом.
Мы видели много примеров, когда приверженцы золотого сечения изучали пропорции всевозможных произведений искусства в поисках действительного или мнимого применения φ. Эти страстные поклонники подвергли подобному обращению и многие музыкальные композиции. Результаты получились очень похожие: наряду с единичными случаями, когда золотое сечение и в самом деле легло в основу той или иной системы пропорций, налицо множество ошибочных предположений.
Пол Ларсон из Университета Темпл в 1978 году заявил, что обнаружил золотое сечение в нотной записи первой европейской музыки – в хоралах « Kyrie » из собрания грегорианских хоралов « Liber Usualis ». Тридцать хоралов « Kyrie » в этом собрании созданы с разбросом более чем в шестьсот лет, начиная с Х века. Ларсон утверждал, что проанализировал 146 частей хоралов « Kyrie » и в 105 из них обнаружил значимые «события» (например, начало или конец музыкальной фразы), разделенные в отношении золотого сечения. Однако в отсутствие каких бы то ни было исторических данных, подтверждающих, что композиторы тех времен применяли золотое сечение при создании этих хоралов, и каких бы то ни было рациональных объяснений, зачем это было делать, можно лишь считать, что перед нами, к сожалению, очередной пример жонглирования цифрами.
В целом подсчет нот и ритма нередко выявляет определенные численные соотношения между разными частями музыкальной пьесы, и у того, кто проводит этот анализ, возникает, конечно, понятное и естественное искушение сделать вывод, что композитор сознательно все рассчитал. Однако если нет надежных документальных свидетельств – а во многих случаях их нет – подобные предположения сомнительны.
В 1995 году математик Джон Ф. Путц из колледжа Альма в Мичигане исследовал вопрос о том, пользовался ли Моцарт (1756–1791) золотым сечением в двадцати девяти частях фортепианных сонат, каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух отчетливо выраженных фрагментов: сначала идет экспозиция, когда слушателя знакомят с музыкальной темой, а затем разработка, где тема развивается и пересматривается. Поскольку музыкальные произведения делятся на одинаковые по продолжительности единицы под названием «такты», Путц изучил отношение количества тактов в двух частях сонат. Моцарт, который в школьные годы, по свидетельству его сестры, «не говорил и не думал ни о чем, кроме цифр», вероятно, один из лучших кандидатов на то, чтобы строить свои сочинения на математической основе. Более того, и до Путца было опубликовано несколько статей, где утверждалось, что в фортепианных сонатах Моцарта и в самом деле видно влияние золотого сечения. Первые результаты Путца оказались очень многообещающими. В сонате № 1 до мажор, к примеру, в первой части разработка состоит из шестидесяти двух тактов, а экспозиция из тридцати восьми. Отношение 64/38 = 1,63 очень близко к золотому сечению. Однако тщательное изучение всех данных в целом убедило Путца, что нет, Моцарт не применял в своих сонатах золотое сечение и вообще неочевидно, что простое соотношение длительности частей произведения делает его особенно приятным. Поэтому, хотя многие называют музыку Моцарта подлинно божественной, божественная пропорция тут ни при чем.
А вот знаменитый венгерский композитор Бела Барток (1881–1945), судя по всему, применял золотое сечение довольно часто. Бела Барток был не только пианистом-виртуозом, но и фольклористом и сочетал элементы, заимствованные у других композиторов, которыми он восхищался – в том числе, у Штрауса, Листа и Дебюсси – с фольклорными мотивами, что и придавало его музыке ярчайшую индивидуальность. Как-то раз Барток сказал, что «мелодический мир моих струнных квартетов если и отличается от народных песен, то несущественно». Ритмическая живость его музыки в сочетании с тщательно рассчитанной симметрией форм делает его одним из самых оригинальных композиторов XX века.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу