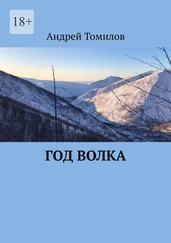Жиденькая, в три волосинки, удэгейская бороденка топорщилась в разные стороны, узкие до предела глаза, просто одни щелочки, не хотели расставаться с берегом, снова и снова ловили взглядом людное крыльцо столовой. Опять что-то сказал и бабушка шевельнулась, тяжело оттолкнула лодку от берега, в одно касание вывела ее на достаточную глубину и без труда остановила там, уперевшись шестом в покатое, галечное дно. Лукса ещё раз глянул на яркое солнце, спустил мотор в воду.
Река была живая, она лениво тянула прозрачные нити струй, скручивая их за кормой лодки в крепкий жгут течения. Едва заметной волной прикасалась к берегу, ластилась, трогала береговую гальку, но с места не сдвигала ни одного камешка. Тихое время лениво подвигалось к полудню. Неспешно подвигалось.
Мотор у Луксы был старый, очень старый. В деревне таких моторов уже и не осталось, только у него. Зато и названия такого тоже ни у кого не было, мотор назывался «Москва». И не просто «Москва», а на конце ещё стояла большая буква М. Лукса думал, что это специально так сделали, чтобы не забывать, что тот большой и славный город называется с большой буквы М. Когда возвращался с войны, он был в этом городе, видел какие бывают огромные и красивые дома. В других городах тоже есть много больших домов, но они не такие, как в Москве. В Москве выше и красивее.
Стартера на моторе давно уже не было. Чтобы завести мотор, нужно было обмотать вокруг маховика крепкий, сыромятный ремешок, упереться коленом в сидушку и резко дернуть. Маховик раскручивался и мотор заводился. Но было это не так просто. На самом деле, чтобы его завести, нужно было дернуть так, прилагая немалые усилия, раз десять, а то и ещё больше. Для удобства Лукса привязал на самый конец ремешка крепкую палочку. Брался за эту палочку и дергал. Снова накручивал ремешок на маховик и снова дергал. Опять накручивал, и опять дергал. Мотор хлюпал своим загадочным, неведомым нутром, но заводиться не хотел.
– Совсем его старый стал. Больной, – ворчал охотник и накручивал ремешок уже в десятый, двадцатый раз. Дыхание сбилось, руки от усталости повисли плетьми и мелко дрожали. Все люди уже давно ездили на «Ветерках», и даже на «Вихрях», а Лукса все мучился и мучился со своей «Москвой».
На лбу снова выступили капельки, рубаха распоясалась. Силы, чтобы дернуть посильнее, уже не хватало. Устал. И, вдруг: о, чудо! Мотор взревел! Загудел громко, на полный газ! Вот, только проблема, ремешок застрял в прорези маховика и теперь широко и резко крутился, все сильнее, все резче раскручивая деревяшку, привязанную на конец ремешка. Лукса выставил руки, чтобы поймать ремешок, но тот так резко хлестал, что старик согнулся пополам от нестерпимой боли, невольно подставил под расправу худую, округлую спину. Ремешок принялся за дело! Он хлестал по спине так резко и остервенело, что уже на глазах спина начинала мокнуть от сукровицы, а рубаха расползалась на стороны. А мотор все кричал и кричал, все громче, громче. Лукса опустил голову, прикрыл ее руками и молча, стоически принимал побои.
Наконец, сообразив, что пощады не будет, что надо как-то самому выбираться из этой ситуации, пригнулся еще ниже и отпрянул от мотора. А тот продолжал кричать и раскручивать прозрачным пропеллером страшную нагайку. Лукса, отстранившись, выбравшись из-под ударов, схватил шест, размахнулся и врезал, что было силы, прямо по голове любимому мотору.
От такого ловкого и сильного удара шест переломился надвое, а мотор утробно икнул, маховик чуть наклонился набок и весь мотор сильно, сильно затрясло, словно в лихорадке. Он еще несколько раз со скрежетом провернулся и замолчал. Ремешок безвольно повис. Вид у мотора был такой, как у пакостного щенка, застигнутого на месте преступления. Это ещё больше взбесило старого охотника и он, снова и снова охаживал мотор обломком шеста, приговаривая при этом:
– Вот! Больно!? Больно тебе!? А мне, думаешь, не больно было?
Отбросив обломок шеста, сел на свое место, на законное место моториста. Сел и заплакал. Утирал рукавом слезы.
– А ещё Москва называешься, эх, ты…. А дерешься как простая деревня.
На спине набухали рубцы, выступала скупая сукровица.
Бабушка Уля всю эту сцену наблюдала молча, равнодушно свесив едва тлеющую трубку на одну сторону старческих губ.
Ах, каким ловким и сильным охотником помнит она своего мужа! Каким сильным! Разве бы посмел какой-то мотор обидеть тогда его? Разве бы посмел…. В те времена, когда Лукса ещё ходил пружинистой походкой, когда он легко, без промаха бил кету острогой на другой стороне протоки, метко кидая острогу, как копье, тогда никто не смел его обидеть. Ни кто! Каждый день Лукса кормил тогда свою молодую жену вкусной талой, а зимой не жалел строганины. Каким ловким и сильным он был охотником! Он никогда не тратил порох на кабана. Если собаки останавливали кабана, он бил его или пальмой, или вообще, ножом. Подкрадывался, прыгал тому на спину и одним ударом вгонял нож под лопатку. Кабан ещё нес смелого охотника по густым зарослям, стараясь стряхнуть, сдернуть его со спины, но скоро понимал, что сердце распластано на две половины и валился бездвижным. Вот, каким ловким был охотник в молодости. Как быстро проходит жизнь, как быстро.
Читать дальше