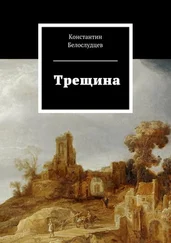Он посмотрел в лицо Отченашенко и раздумчиво произнес, растягивая слоги:
– Давно не слышал, как жалуются.
– Ну, это я так, понимаете ли… Дорога, то да сё…
Начал оправдываться Никодим Филиппович, ужасаясь от мысли, что вот, снова попал в дурацкое положение.
– Значит, жаловаться не будем?
Незнакомец почесал лохматую, видимо ни когда не видевшую ножниц парикмахера голову, почесал аппетитно, запустив в неё обе руки, и чесал с каким-то остервенением, а потом выдохнул с явным облегчением:
– Блохи, будь они прокляты! Так, что? Жаловаться не хочешь?
И, выждав паузу, заметил:
– А жаль. Сегодня самое подходящее время для жалоб. Понимаешь ли, люди все время жалуются в неподходящее время! Вот ты, специалист, рассуди; от чего это людям приходит в голову жаловаться в неподходящее время, а когда нужно – хоть бы одна-единственная жалоба?!
Отченашенко молчал, не зная, что ответить и самое главное – как нужно ответить. Незнакомец нагнулся и вытащил из под сидения баул, и, обернувшись к Никодиму Филипповичу, сказал:
– Ну, коли жаловаться не хочешь и ответа не знаешь, то хоть пить-то можешь?
Неожиданно для Отченашенко, сидение, рядом с водителем, резко откинулось назад и ему еще раз зашибло руку. Откинутое сидение образовало нечто похожее на стол. Водитель, он же, как оказалось – Дурдынин, стал извлекать из баула снедь. Это были копченые колбасы, стеклянные баночки с красной икрой, резанный на ломти черный и сдобный хлеб, какие-то соления, шмат сала обильно нашпигованного чесноком и в довершении всего литровая бутылка водки.
Запах снеди перебил запах бензина и масла в салоне, и даже погребной запах, идущий от Дурдынина. Голова Никодима Филипповича пошла кругом. Он походил на рыбу только что выброшенную на росную траву, вот только трепыхаться негде было – сидел придавленный откидным столом с одной стороны, а с другой, коваными углами подпирал его отцовский чемодан.
Дурдынин достал два граненных стакана и наполнил их водкой под самый ободок, а затем, приподняв стакан, сказал, обращаясь к Отченашенко:
– Бери и давай вздрогнем по случаю.
Отченашенко механически потянулся к стакану и спросил:
– По какому случаю?
Дурдынин улыбнулся краешком губ и ответил:
– Случай он и есть случай, поскольку никакой! Ежели бы, был какой случай, то и имя бы, имел. Эх ты, голова!
Никодим Филиппович держал в одной руке стакан, а в другой ломоть копченой колбасы, истекающей соком, невиданной ранее толщины, похожей на масленый блин и не знал, что делать? То ли вначале откусить и проглотить колбасу, а потом выпить, то ли вначале выпить, а потом приняться за колбасу и прочую снедь, но рука державшая колбасу сама решила за его и он, не заметил, как весь ломоть оказался на языке и, почти не жёваный, скользнул в желудок.
Оказалось, что Дурдынин внимательно смотрел за ним:
– Вот, оно как! – Удивленным голосом сказал Дурдынин. Отченашенко не понял, то ли он, этим; «вот оно как!» одобряет, то ли осуждает его. Второй ломоть колбасы, так же, самостоятельно, без содействия мыслительного процесса Никодима Филипповича, оказался во рту, только теперь зубы и десна получили причитающую им часть наслаждения от сока и специй, этого чуда кулинарного искусства.
– Вот, оно как! – Еще более удивленным голосом произнес Дурдынин во второй раз и залпом осушил свой стакан и тут только Отченашенко понял, что и он держит в руках такой же стакан с водкой. Никодим Филиппович поднес его к губам с намерением так же, как Дурдынин опрокинуть его в себя. Водка была теплая и оттого пахла, и ему сделалось дурно от её запаха. Затошнило. Он схватился за ручку дверцы, едва успев поставить стакан на сидение, и кубарем выскочил из машины. В спазмах рвоты он не услышал, как взревел мотор, и машина ушла во всё ту же белесытую мглу, в которую рвало Отченашенко. Когда немного полегчало, и Никодим Филиппович стал способен воспринимать окружающее, он понял, что его бросили невесть где, посреди дороги. Обида захлестнула его.
– За что! За что!?
Гудело в его голове, словно в Бухенвальдском колоколе и это «за что?!» вдруг вырвалось из его горла и обернулось рыданиями.
Он сел на сырую и мокрую землю, обхватил руками голову и стал раскачиваться из стороны в сторону, как китайский болванчик, всхлипывая от переполнявшей его обиды. Вскоре он впал в какое-то странное оцепенение, похожее на полудрему. И ему привиделось детство и он на руках мамы и та, утирает его зареванное лицо такой мягкой и нежной ладонью, какой не гладила его ни одна из женщин. Он хотел умереть, но умереть так, чтобы все видеть и слышать, и самое главное, слышать, как будут говорить о нем добрые слова, которых так не доставало ему при жизни. Добрые, потому что всегда на похоронах говорят добрые слова, кого бы ни хоронили – это, он знал точно. Так заведено, так принято и почему бы, ни сказать доброе слово, об Отченашенко? О мужчине сорока двух лет, от которого три года тому назад ушла жена. Да, он не сделал ни чего хорошего, но ведь и плохого не сделал же? Так за что его так треплет жизнь? Нет, он вполне заслуживал доброго посмертного слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






![Кае де Клиари - Трещина [СИ]](/books/398531/kae-de-kliari-trechina-si-thumb.webp)