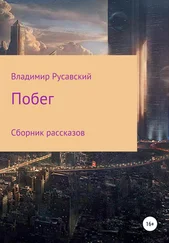Прочитав письмо атамана, я закурил и пустил бумагу по кругу. И хотя после беседы с генерал-лейтенантом Толстовым, я предполагал нечто подобное, но теперь, здесь, вся эта затея мне все меньше и меньше нравилась…
— Твою мать! — вскочил на ноги сидевший до этого на пне Давыдов. — Да на хрена нам это нужно!? Если мы эту чертову куклу украдем, или тем паче порушим, то не у большевиков, а у нас под ногами земля запылает, и нам уже из тайги живыми не выбраться. В этих гаях и сгинем…
Громыко Алексей также был против плана, задуманного Дутовым.
— Ваше благородие, Иван Захарович, ну ее к лешему, бабу эту… Возвернемся назад, пока Бог боронит… А уж что сказать атаману, у нас еще будет время подумать.
В душе я был полностью согласен с товарищами, но уйти, хотя бы краем глаза не взглянув на эту «Золотую бабу», я просто не мог.
— Сделаем так (Давыдов и Громыко щелкнув каблуками, вытянулись): я сейчас схожу один, посмотрю на идола этого и через час начнем восхождение на плато…
Отбросив красноармейскую одежку в сторону, не оглядываясь, я направился ко второй скале.
Высоченная, более трех метров, деревянная фигура грубо вырезанной из дерева женщины с обвислыми грудями сидела на большом, плоском камне. Толстые, выпирающие ее губы были черны от высохшей крови, а в руках у нее покоилось широкое блюдо, чуть ли не медный таз, доверху заполненный золотыми монетами и грубыми украшениями… И справа, и слева от идола, вдоль стен, покрытых халцедоном натечным, навалом лежали десятки, сотни отрубленных по локоть рук. Многие явно лежали уже не один десяток лет, высохли и сморщились, но от некоторых шел ни с чем несравнимый запах гниения… Рой черных, отливающих зеленью мух, жужжа, поднялся над этими страшными трофеями (или жертвоприношениями?) при моем приближении. Я — человек, истинно верующий в Бога, но даже под расстрелом вряд ли бы согласился на уничтожение этой, пусть языческой, но все равно почитаемой людьми святыни…
Я выскочил из пещеры, и как оказалось — вовремя. В том направлении, где остались мои казаки, слышались глухие выстрелы наших винтовок и раскатистые — дробовиков… Подбежав к товарищам, я понял, что они отстреливаются вслепую, не видя противника, а те, напротив, из густых зарослей малины и морошки, стреляли прицельно, наверняка. И у Давыдова и у Громыко уже кровоточили небольшие, но болезненные раны от крупной дроби местных охотников. Выстрелив пару раз в сторону кустов, я, а следом и оба приказных бросились к тропе, ведущей на плато, пригибаясь к земле и петляя на бегу… Крупная дробь еще долго царапала камни, за которыми мы прятались, пока короткими перебежками поднимались в гору.
— Кажись, оторвались, ваше благородие, — прохрипел Давыдов, выскакивая на плато и бросаясь к своей лошадке, коротко заржавшей при виде хозяина.
— Да, оторвались, — подумал я, направляясь к встречающему нас старшему уряднику Петру Попову. — Оторвались… Надолго ли?»
10.
…Зима шла на убыль. У кедра лохматые лапы несколько приподнялись от земли и изогнулись — нет более верной приметы, что дело идет к весне… Да и без кедра все было ясно: конец зиме, конец…
«…Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой!
Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой!»
— Ну, ты, дед, даешь, — хмыкнул Савва и резким тычком вогнал жало топора в доску крыльца. — Мало того, что ты и так со мной ежедневно болтаешь, ровно живой, так теперь еще и петь надумал…
Он сидел на просохшем под солнцем крыльце, босой, подстелив под ноги кусок лосиной шкуры: солнце солнцем, но снег даже во дворе пока еще полностью не сошел — прохладно…
— Ну, так что же, Савушка, — в голосе Хлыстова явно чувствовались виноватые нотки. — Я, понимаешь ли, песню эту очень любил… Иной раз скачешь по степи, долго, день почитай из седла не встаешь, да если еще шашкой от души намашешься, а вот запоешь, негромко, для себя, вполголоса, и веришь, как будто и не уставал. Сам не знаю отчего…
«…Много за душу твою одинокую,
Много я душ погублю;
Я ль виноват, что тебя, черноокую,
Больше, чем душу, люблю!»
Гридин, все так же улыбаясь, отложил свежеструганное весло, сгруппировался, словно кошка перед прыжком и, оттолкнувшись босой пяткой от обиженно скрипнувшей доски крыльца, резко повернулся… Как всегда, господин подъесаул (до чего же скор, старая сволочь) обманул Савелия: ни на крыльце, ни в полутемных сенях никого не было. Лишь наглый смешок раздался где-то за углом. Зэка фасонисто, по блатному цыкнул слюной сквозь зубы и, смахнув ногой золотистые стружки с крыльца, пошел в дом. Громкий, протяжный треск, ударив в спину расслабленного зэка, бросил его, испуганного, на пол. Треск повторился, но на этот раз еще более громкий и резкий, и Гридин сообразил, что это может быть не что иное, как начало весеннего ледохода. Натянув кое-как сапоги на босые ноги, он, проваливаясь по колено в жесткий, крупчатый снег, поспешил к реке. Зеленоватый лед, от берега до берега, квадратную полынью, вырубленную им, Гридиным, и уже затянутую тонким ледком, пересекала крупная, извилистая трещина толщиной в руку, Лед на изломе, толстый и блестяще-влажный, отливал бутылочным стеклом, поблескивал радостно, разбрасывая тонкие, радужные лучики…
Читать дальше

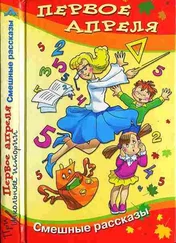



![Владимир Борисов - Вечная игра [СИ]](/books/418096/vladimir-borisov-vechnaya-igra-si-thumb.webp)