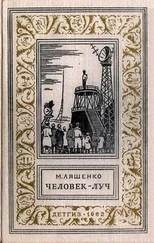Он долго ломал голову, пытаясь припомнить, где он слышал голос, осудивший его за борьбу против революции… Очень расстраивался, что никак не мог припомнить. Решил ничего никому не рассказывать. Прикинуться равнодушным к обиде, веселым, своим в доску парнем - так они говорят… Быть мудрым, аки змий. И все разведать, разнюхать, вывести на чистую воду.
А в округе и даже в городе все еще вспыхивали неожиданные бои. Ничего нельзя было понять. По местной газете и восторженным речам Валерия Митрофановича выходило, что от Пензы до Урала огромные территории отпали от большевиков, что их прогнали, уничтожили, и славят не то Учредительное собрание, не то царя-батюшку. А бои можно было видеть из окон казармы…
В двадцатых числах августа, в серый, почти осенний денек, когда с утра запахло дождем, но он почему-то никак не начинался, пальба пошла как раз под окнами, во время обеда.
- Ложись! - крикнул дежурный, Николай Иванович.
Процедура была известная, старшим даже надоела. Только маленькие поспешно залезали под столы, и то норовили захватить свой паек хлеба… Зазвенело окно, вылетевшее от шальной пули, посыпались осколки. И пока девчонки визжали, а Катя и Николай Иванович их утешали, Ларька и Аркашка умудрились незамеченными выскользнуть из столовой.
Окно в соседней комнате было открыто. Они бросились к нему, вовсе и не думая, что сюда может залететь пуля. На заморенных, в пене, лошадях прыгали всадники. У некоторых на ногах были лапти, а у одного боком сидела на голове старая соломенная шляпа… Командир, в линялой гимнастерке, с непокрытой, обвязанной окровавленным бинтом головой, отбивался саблей от наседавших на него беляков…
Не сговариваясь, Аркашка и Ларька покатились по лестнице вниз, выскочили во двор. Выстрелы, крики и стоны их не остановили. Они выглянули из-за полосатой будки часового.
Командир лежал на земле; около него отстреливались двое, потом побежали к холерному бараку, за ними гнались белые… А краском, это был он, ребята узнали его еще из окна, лежал один и стонал…
Оскалясь, не дыша, Ларька на четвереньках побежал к нему.
- Ты что? - ахнул было Аркашка и пополз следом.
Краском не мог говорить, но узнал Ларьку и, глядя на него, с трудом подняв руку, хотел сунуть ее за борт тужурки. Дрожащими пальцами Ларька расстегнул его тужурку. Там было кумачовое знамя, то самое, еще виднелась надпись «Мир - хижинам…» Краском строго взглянул на Ларьку, коснулся знамени, будто подвинул его к ребятам, приказал… И Ларька, схватив знамя, спрятал его под рубашку, на голое тело.
Они с Аркашкой ухватили было краскома за тяжелые плечи, чтобы оттащить во двор. Но вовремя шарахнулись в сторону: над ними свистнула, как змея, чужая шашка… Они побежали к себе во двор, пригибаясь, ожидая страшный удар.
- Куда? - крикнул чей-то сиплый голос, останавливая погоню за мальчишками. - Там холерные…
В сентябре, часто безоблачном и теплом в этих краях, как назло, зарядили дожди, похолодало.
Все чаще стали размышлять, в чем же выйти на улицу.
Против дождя у некоторых девочек были зонтики; еще меньше отыскалось плащей, да и те имели скорее символическое значение, так как любая капля проходила сквозь них без труда. Мальчики были вооружены против дождя только веселой уверенностью, что каждая лужа с нетерпением ждет своего исследователя, и стремлением потягаться, кто дольше способен мокнуть. Это, конечно, пока шли теплые дожди. Но пошли холодные…
Рассчитывали непременно вернуться в августе; никаких теплых вещей никто не взял.
Впрочем, первые дни они боялись выходить даже во двор приюта. Помнили о холере… А главное, все здесь было незнакомое, чужое. Дома их все знали. И они знали всех. Не только людей, но и стены, от которых так ловко отскакивал в расшибалочку тяжелый пятак, деревья, вокруг которых они кружились, свой двор, сараи, дорогу в школу, каждую выбоину в тротуаре, забор, за которым рычала злая собака, тетку с горячими пирожками, - они знали всех и всему были хозяевами! Все это было если и не их, то словно для них… А здесь они были никем. Даже ничем! И ужасно неприятно становилось слушать, как ругают их Питер. Только Ларька мог откровенно, издевательски посмеиваться, сверкая зубами:
- Кто был ничем, тот станет всем!
Хорошо, что немногие и не сразу догадывались, что это из «Интернационала». Кто был ничем, тот станет всем. Неужели это про них?..
В обносках, пожертвованных сердобольными горожанами, замерзшие, синие, с мокрыми носами, десятки, а потом и сотни мальчиков и девочек выбирались из казармы, несмотря на строжайшие запреты, и разбредались по городу.
Читать дальше

![Михаил Бочкарев - Моя война [Документальная повесть]](/books/24692/mihail-bochkarev-moya-vojna-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
![Михаил Глазков - Горюч-камень [Повесть и рассказы]](/books/26802/mihail-glazkov-goryuch-kamen-povest-i-rasskazy-thumb.webp)