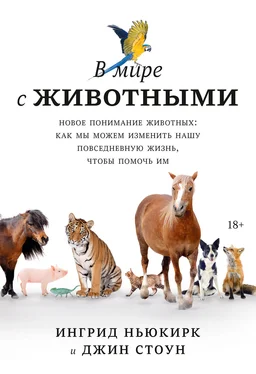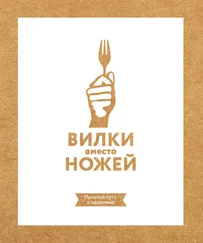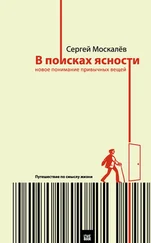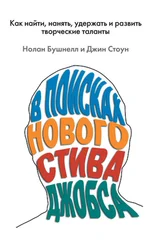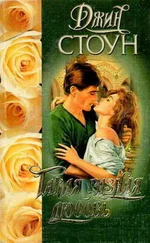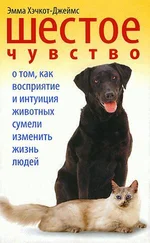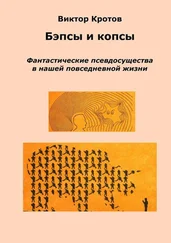Большинство коров не могут позволить себе такой роскоши. Похожую историю рассказала ветеринар Холли Чивер, служившая на севере штата Нью-Йорк. Холли позвонил озадаченный фермер, у которого в хозяйстве отелилась корова швицкой породы. Это был ее пятый теленок, но почему-то вымя коровы загадочным образом оставалось пустым даже через несколько дней, хотя, по опыту прошлых лет, она должна была давать много литров молока. Наконец около двух недель спустя фермер разгадал загадку. Однажды рано утром он пошел вслед за коровой на пастбище и увидел ее на краю леса, где она кормила какого-то другого теленка. Оказывается, она родила двойню и, зная, что детей сразу забирают «на мясо», одного ребенка отдала фермеру, а другого спрятала и тайком кормила. Поистине то был «выбор Софи» {20} . Вот итог, который подвела этой истории Холли: «Во-первых, у коровы осталась память о предыдущих четырех потерях, когда после родов у нее забирали телят и больше она их не видела… Во-вторых, она смогла разработать и осуществить свой план… Я знаю одно: за этими прекрасными глазами скрывается намного больше, чем мы, люди, можем себе представить. И как мать, вырастившая четверых детей, хотя и не пережившая страданий от потери любимых отпрысков, я чувствую ее боль» [47].
Переживания экстаза любви и боли утраты присущи не только человеку. Но, по правде говоря, мы никогда не сможем постичь глубины и красоты сострадания, на которое способны животные. Все матери, независимо от того, сколько у них ног — две, четыре или восемь, — понимают, что потеря ребенка означает потерю частицы себя. И эта частица уже никогда не восстановится. Современная наука может иметь лишь слабое представление о любви, которую испытывают собаки, коровы и любые другие животные из почти девяти миллионов биологических видов. Даже самые мощные медицинские сканеры человека никогда не выявят подлинную суть неведомых нам эмоций.
За доказательствами далеко ходить не надо, довольно вспомнить, как живут мыши, скрываясь от человеческих глаз. Все мы слышали милые песенки мышей, поющих тоненькими голосами в фильме «Золушка». Выяснилось, что настоящие мыши поют друг другу песни на такой высокой частоте, которую не воспринимает человеческое ухо. Используя сверхчувствительные микрофоны, австрийские ученые обнаружили, что мыши поют друг другу любовные песни в период ухаживания — ультразвуковые баллады, которые могут услышать только они сами.
Если мы можем лежать в постели и нам не мешают спать любовные мелодии наших маленьких друзей, то чего еще нам не хватает? И что еще мы упускаем? Может статься, величайшие истории любви нашего времени происходят сейчас высоко в небе, в глубине океана, в лесных дебрях или просто глубокой ночью у нас под половицами.
Игра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их играть.
ЙОХАН ХЁЙЗИНГА. Homo ludens. Человек играющий {21}
Доктор Марина Давила-Росс из Портсмутского университета в Великобритании была озадачена. Как специалист по поведению приматов она не могла не заметить нечто странное: одна горилла нежно ударила другую и убежала, вторая горилла догнала ее, ударила — и бежать. Иными словами, гориллы явно играли в салки.
Прежде всего Давилу-Росс заинтересовало, была ли эта сценка единичным случаем или такое поведение обычно для обезьян. Вместе со своей исследовательской группой она проанализировала видеозаписи 21 гориллы из шести колоний, проживавших в пяти разных зоопарках Европы. «Наш вывод таков, что игра горилл очень похожа на детскую игру в салки. Гориллы, за которыми мы наблюдали, не просто поочередно ударяли друг друга, а затем убегали: они если попадались, то менялись ролями — и тогда преследователь становился преследуемым и наоборот», — сообщила она в июле 2010 года [48].
Малыш, когда за ним гоняются в игре, визжит от удовольствия — это вам подтвердит любой родитель. Какой восторг испытывает старшеклассник, когда бежит, увертываясь, к зачетной зоне {22} , обходя всех защитников. Помните, какой популярной с 1980-х годов стала аркадная видеоигра «Пакман»? Дети и взрослые сутками гоняли по лабиринтам отважного пожирателя точек, уводя его от преследования привидений. Трепет погони заложен в глубоких структурах мозга, поэтому острые ощущения не зависят ни от каких семей, родов и видов — они присущи любому живому существу. Питер Грей, профессор психологии в Бостонском колледже, подтверждает это положение: «Когда животные убегают от реального хищника, главной побудительной силой, конечно, бывает страх. Когда они в игре тренируют навыки спасения от погони, основным мотивом выступает удовольствие» [49].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу