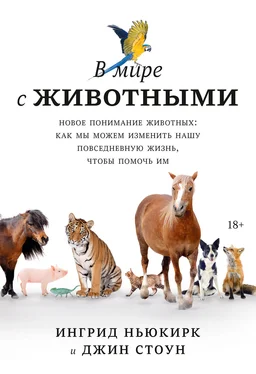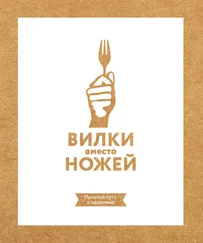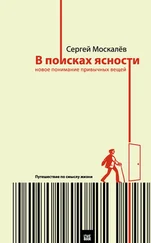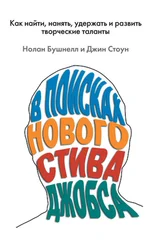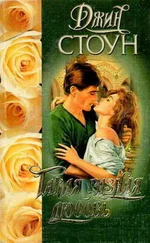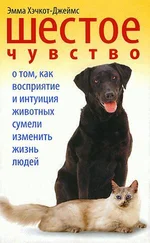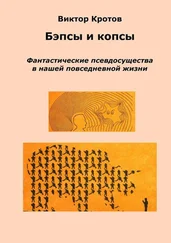Другое часто преследуемое животное — газель — тоже должно рано научиться навыкам выживания. Газели относятся к подсемейству антилоп, обитают они в пустынях и саваннах Африки, а также в Индии и Южной Азии. Все виды антилоп отличаются своей стремительностью, некоторые из них способны достигать скорости до 100 километров в час. Их невероятная скорость развилась как результат эволюционной необходимости: газели становятся добычей львов, гепардов, леопардов, шакалов, гиен и даже крокодилов. (На древних наскальных рисунках можно увидеть, что люди тоже давно охотились на газелей, хотя в наше время они сменили копья на дальнобойные винтовки и сели в джипы.) В исследовании 2012 года китайские ученые обнаружили, как игры помогают молодым джейранам, обитающим на Ближнем Востоке, в Индии и Китае, развивать мышечную силу, чтобы убегать от хищников. Неудивительно, что основной игрой был бег наперегонки с короткими стремительными рывками, переменой направления, прыжками и пинками. Эта удивительная резвость позволяет газелям искусно уходить от таких хищников, как гепард, который бежит на большей скорости, но быстро изматывается от увиливаний газели, ее обманных повторяющихся маневров. Эти приемы газели мастерски осваивают с самого рождения.
Игра может служить не только развитию физической сноровки, необходимой для охоты и выживания.
Изучая приматов, ученые подошли ко второму объяснению игр животных, которое дополняет и даже, может быть, заменяет первое объяснение. При подготовке к взрослению игра стимулирует и укрепляет области мозга, связанные с научением и мышлением, а это ключевые способности для животных с высокоразвитым социальным устройством. Считается, что приматы рождаются со всеми необходимыми нервными клетками, известными как нейроны. Тем не менее игры могут укреплять нейронные связи в мозгу, помогая им адаптироваться и осваивать новые функции. Соответственно, виды, которые играют с удовольствием, имеют эволюционное преимущество.
По данным наблюдений, определенные виды игр связаны со специфическими навыками. Например, так называемые несоциальные игры, в которых приматы играют в одиночку с разными предметами, укрепляют области мозга, связанные с использованием орудий труда и способностью к творчеству в будущем. С другой стороны, командная игра развивает такие сложные навыки, как проявление хитрости, позволяющее маневрировать в социальной иерархии. Чем больше приматы играют вместе, тем больше размер полушарий мозжечка — чрезвычайно сложной области мозга, получающей сенсорную информацию для развития мышечной памяти. Забавы делают нас умнее.
В Йельской школе медицины проводили один очень неоднозначный эксперимент. Опыт ставился на нескольких макаках. Эти макаки-резусы — вольные обитатели лесов Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии — сидели в лабораторных клетках в совершенно травмирующих условиях. Их обучали новой для них игре «камень, ножницы, бумага». Любой человек, когда-либо в нее игравший, испытывал при проигрыше мимолетное сожаление. Ну почему я не сжал ладонь в кулак? Макаки тоже сокрушались. Обезьяне, победившей экспериментатора, в качестве награды выдавался стакан сока. При ничьей сока было меньше. Проигравшая обезьяна не получала вообще никакого сока. Исследователи обнаружили, что после проигрыша, в следующем раунде, макаки складывали тот жест, который был последним у выигравшего соперника. Такое поведение демонстрирует не только высокоинтеллектуальный подход к планированию и решению проблем, но и сожаление о неудачном решении. С помощью приборов визуализации и вживления электродов в мозг обезьян ученые доказали, что, когда обезьяны проигрывают, в их мозгу активизируются две области, связанные с сожалением: дорсолатеральная префронтальная кора, которая участвует в планировании, запоминании и абстрактном мышлении, и орбитофронтальная кора, связанная с принятием решений и эмоциональной стороной сожаления.
Небольшой спор среди приматов (человек, кстати, не исключение) может быстро перерасти в настоящий скандал. Когда случается ссора, умные индивидуумы могут быстро разрядить обстановку и достичь примирения. Приматолог Франс де Вааль впервые описал такую тактику в конце 1970-х годов в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology: «После конфликтов между шимпанзе бывшие конкуренты часто переходят к ненасильственным телесным контактам… Они склонны обращаться друг к другу сразу же после конфликта и демонстрировать особые поведенческие модели при этих первых контактах» [54]. Такое примирительное поведение проявляется в поцелуях, объятиях, уступчивых звуках и рукопожатиях. Другие исследования показали, что примирение шимпанзе приводит к укреплению отношений в будущем и снижает вероятность агрессивного поведения. После объятий обезьянам становится намного легче, буквально как и нам, когда мы испытываем облегчение от примирения с любимым человеком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу