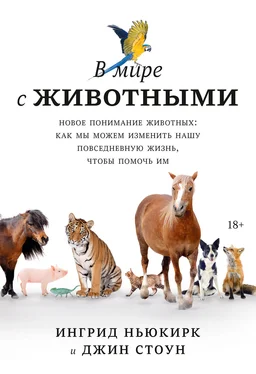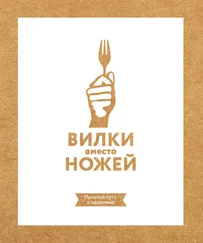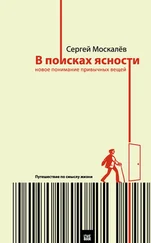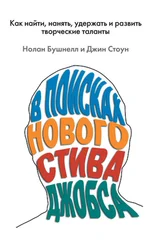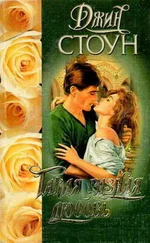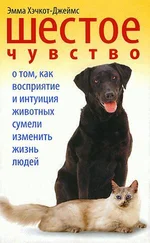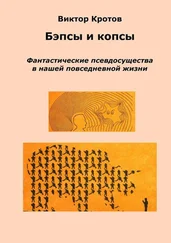Чувство сострадания у животных
Научное сообщество не спешит признать то, о чем давно свидетельствуют наблюдения: животные способны проявлять сочувствие. Безусловно, у животного не спросишь, любит ли оно. Когда молодой слон пытается поднять умирающую старейшину своей семьи, скептики, конечно, могут утверждать, что он просто почувствовал беспокойство. Интересно, а сможем ли мы доказать, что животные способны испытывать любовь, горе и боль?
Во время экспериментов над крысами Рассел Чёрч еще в 1959 году понял, что крыса, запертая в клетке и обученная нажимать рычаг для подачи пищи, останавливается, когда понимает, что ее действия приносят боль другой крысе в соседней клетке. Оставляя в стороне антигуманную сторону эксперимента, ученые яростно обсуждали, что на самом деле демонстрировала крыса. Это была тревога? Подлинное сострадание? Или нечто третье? Спустя несколько лет, в 1962 году, исследователи из колледжа Агнес Скотт провели похожий опыт, еще более сомнительный с этической точки зрения. В клетке подвешивали на ремне крысу, а другой крысе в соседней клетке требовалось спасти ее, отыскав нужный рычаг, опускающий этот ремень. Но если на ремне был подвешен кусок пенопласта, крыса не спешила нажимать на тот самый рычаг. Экспериментаторы пришли к выводу, что спасение висящей крысы «может коррелировать с альтруистическим поведением» [45]. Однако скептики утверждали обратное: мол, новоиспеченная альтруистка вовсе не думала о спасении другой жизни, ей хотелось лишь заткнуть визжащую соседку.
В последующие годы ученые провели множество экспериментов в попытке продемонстрировать эмпатию животных, используя при этом далеко не эмпатические методы. Один из опытов показал, что макаки-резусы предпочтут морить себя голодом, но не подвергать друга ударам током. Испытуемая обезьяна обходилась без еды одиннадцать дней, только чтобы не пытали другую обезьяну, которую она даже не знала. В то же время ученые, придерживающиеся принципов поведенческой психологии, или бихевиоризма, — теории о том, что поведение как животного, так и человека объясняется наличием условных рефлексов, а не мыслями и чувствами отдельной личности, — утверждали, что, какой бы видимый альтруизм ни проявляли животные, по сути, их благородные поступки обусловлены выработанными реакциями на определенные раздражители.
Бихевиористский подход оставался преобладающим в течение десятилетий, хотя отдельные ученые и продолжали изобретать все более варварские методы, пытаясь продемонстрировать, как глубоко могут сострадать друг другу животные. В начале 2000-х годов на кафедре генетики боли Университета Макгилла решили, что им удалось доказать способность к утешению у нечеловеческих существ — в данном случае у мышей. Группа под руководством нейробиолога Джеффри Могила разработала эксперимент с болевым воздействием. Ученый объяснял, что его сочувствие «в основном предназначено для пациентов с хронической болью», поэтому он вынужден причинять страдание мышам, чтобы определить явные симптомы боли [46]. Наряду с другими жестокими опытами группа Могила помещала хвосты мышей, живущих вместе в клетке, в кипяток, чтобы определить их болевой порог. Мыши, которые были вынуждены ждать очереди, естественно, слышали крики своих товарищей и видели их страдания. Именно поэтому ближе к концу испытания, когда этих мышей забирали из клетки, они уже испытывали определенные мучения. Это означало, что мыши не просто наблюдали, как причиняют страдание другим, но и сами чувствовали боль и ужас. Это так называемое «заражение» болью считается одним из основных признаков эмпатии.
Человечеству не нужны горы замученных мышей, чтобы объяснять очевидное. И такой ценой выявлять очевидное: животные любят, скорбят, чувствуют душевную боль, испытывают тревогу, предчувствуют страдания. В начале 2015 года сотрудники приюта для сельскохозяйственных животных «Миссия Эдгара» в Австралии спасли дойную корову по имени Кларабелль, которую собирались забить, так как она давала мало молока. Когда корова оказалась в приюте, волонтеры обнаружили, что она беременна. За неделю до установленного срока родов Кларабелль начала вести себя очень странно: украдкой обходила территорию приюта и избегала встреч с персоналом. Вскоре сотрудники обнаружили, что она, оказывается, уже родила и спрятала своего теленка в зарослях высокой травы. На молочной ферме, где Кларабелль раньше жила, телят обычно отрывали от матерей сразу после рождения, чтобы предназначенное для них молоко можно было продавать людям. Исследования показывают, что это наносит животным тяжелейшую травму, поскольку коровы исключительно преданы своему материнскому долгу. Умудренная горьким опытом Кларабелль, потерявшая многих детей за годы «работы» на ферме, думала, что у нее снова отберут теленка, и попыталась спрятать его. К счастью, она находилась в приюте, где могла спокойно растить своего малыша.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу