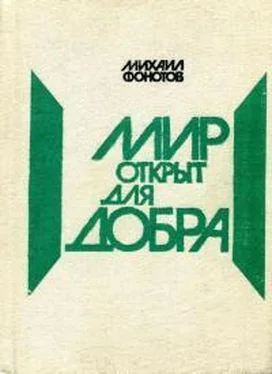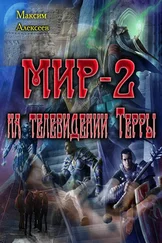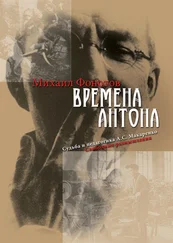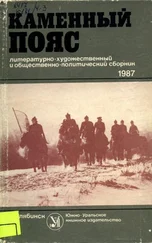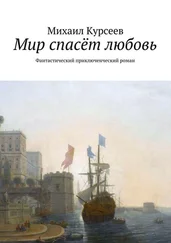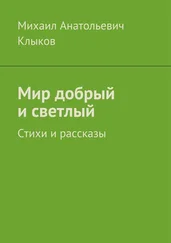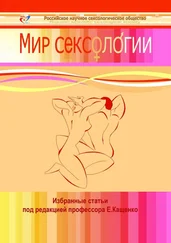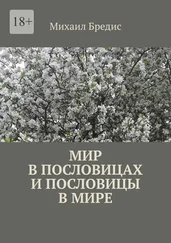А в степи у трав сообщество, в котором на равных правах живут микробы, грибы, насекомые. Сюда же приписаны птицы, животные, вплоть до прежних бизонов. Человек, наконец. Ну-ка, расшифруйте этот многомерный мир…
А теперь представим себе поле: одна пшеница. Монокультура. Какая узкая специализация рядом с универсальностью степи. Пшеница в поле одна, «госпожа». Ей никто не мешает. Но никто и не поможет. Она одна против «всего мира». Против суши и ливней, против ветра и холода, против вредителей и болезней. Ей некому помочь. Кроме человека. А человек ее нежит. Кормит азотом и фосфором, защищает от сорняков, поливает ядами, чтобы не болела. От такого «внимания» пшеница становится еще капризнее и беспомощнее.
Сошлюсь на авторитеты. В одной из своих работ профессор И. Поляков утверждает:
«Вот что показало сопоставление состава насекомых, обитающих в ковыльной степи и на расположенном рядом посеве пшеницы: на посевах численность пшеничного трипса была больше в 280,8 раза, чем в степи, полосатой хлебной блохи — в 20,6 раза, серой зерновой совки — в 25 раз».
Далее профессор отмечает, что потери урожая от вредителей и болезней с годами не снижаются, а растут. Соответственно тому растут и затраты на борьбу с вредителями и болезнями.
«Если и дальше так пойдет, — заключает профессор, анализируя проблему защиты культурных растений в мире, — то к 2000 году потери урожая составят 82,5 миллиарда рублей, то есть почти 68 процентов валовой стоимости продукции растениеводства».
Такие прогнозы оставляют одну надежду: досконально изучить жизнь ковыльной степи и хотя бы кое-что у нее перенять для «культуры».
Значит, поберечь степь от плуга.
ВОСПОМИНАНИЯ О ТАГАНАЕ
По радио передали: на Таганае четыре градуса тепла, ветер пятнадцать метров в секунду…
Кто там сейчас? Роберт Птицын с Борисом Серебряковым? Или Владимир Велижанин с Юрием Писаревым? Иван Наговицын с Петром Беззубиковым?
Горят дрова в печи. За перегородкой писк аппаратуры. Дежурный снимает с кастрюли крышку, сбрасывает в кипящий суп аккуратно нарезанный лук, и комнату наполняет горячий мясной дух. Мона Лиза, загадочно улыбаясь, смотрит со стены, как он с ложки пробует суп на соль. А за окном ветер, на крыше громыхает жесть, и трепещет на скале согнувшаяся березка.
Мы будем помнить тебя, Таганай…
… Итак, в дорогу. Пройдя несколько километров по лесной тропинке, одолев долгий подъем, поднялись к Откликному гребню. Мы стояли перед ним у отвесно поднимающихся скал, вблизи любуясь дикой величавостью поднебесных камней.
Мы крикнули Откликному, и он откликнулся.
И снова рюкзак на спине — идем по вершине хребта. Сначала тропинка петляет в низком лесу, потом поднимается на перевал. Наконец, теряется в каменной россыпи: перед нами вершина Круглицы. С камня на камень, с камня на камень — все выше и выше. Остались внизу леса. Только можжевельник, распластавшись в расщелине, прячет под ветками свои скрюченные, ползучие побеги.
Уму непостижимо, как его черная ягодка когда-то прижилась тут, среди камней, схватилась корнями, спасаясь от студеного ветра, обвила стеблями ребристые глыбы. Можно еще представить, как после дождя куст напоит себя скудной, словно роса, влагой. Но где ему взять пищу в этом стерильно чистом воздухе, на высоте, куда и пылинка не залетит, чтобы, осев одна к другой, образовать нечто подобное комочку почвы? Разве что подсыпав под себя своих же иголок, взять у них силу, чтобы пережить еще одну зиму и, несмотря ни на что, подняться еще выше…
А ветер все круче, все ближе небо — и вот она, вершина Круглицы. Только камни, «кем-то» сваленные в кучу. Суровая вершина.
Вокруг зеленое «море» в голубой дымке. Под нами парят два кобчика, выслеживают кого-то.
Где-то, невидимая, течет по камням река. Все далеко внизу. А здесь — вершина, и кружится голова, когда поднимешь глаза к небу, словно теряя последнюю под ногами опору.
Чего ради человек поднимается в горы? Ради этой раздольной красоты, конечно. Встанешь на скалу — и вдруг распахнется перед тобой вечный простор. Горы прекрасны. Но есть в них еще что-то, кроме этой популярной красоты. Мы поднимаемся в горы, чтобы увидеть пространства и почувствовать время. Время, в котором живут камни.
Кажется, только что упали вразброс эти глыбы. Вроде бы они еще не улеглись как следует, «удобно» и прочно. Вот скала, готовая на глазах обрушиться, стоишь под ней опасливо. И нужно почувствовать время камней, чтобы понять: тут веками ничего не меняется, и еще много лет будут плыть над этими скалами рыхлые облака.
Читать дальше