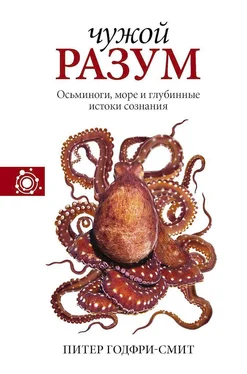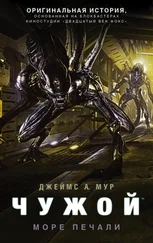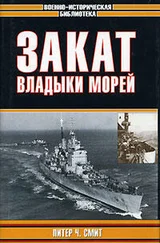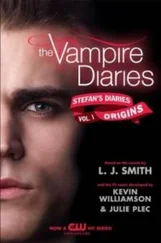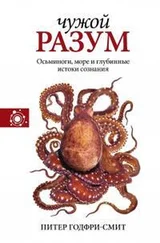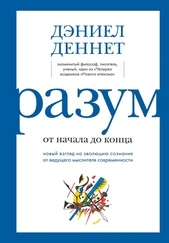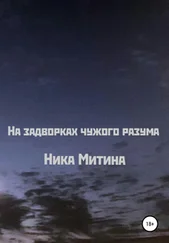Всем организмам известно различие между собой и внешним миром, хотя это может быть заметно лишь наблюдающим со стороны. Кроме того, все организмы влияют на внешний мир, независимо от того, отмечают они как-то этот факт или нет. И все же многие животные приобретают собственный взгляд, собственное восприятие этих фактов, поскольку без него само действие чрезвычайно затрудняется. У растений, напротив, чувства достаточно развиты, но нет способности передвигаться. Бактерии подвижны, но их чувства достаточно просты и не грозят им путаницей, как червяку в примере Меркера.
Подобное взаимодействие между восприятием и поступком обнаруживается также в явлении, которое психология называет константностью восприятия [97] Важность постоянства восприятия для философской проблематики подчеркивается в книге Тайлера Берга (Tyler Burge, Origins of Objectivity (Oxford and New York: Oxford University Press, 2010).
. Мы способны распознавать объект как один и тот же, когда смотрим на него с разных точек. Если вы приближаетесь к стулу или отодвигаетесь от него, вам в норме не кажется, что он растет, уменьшается или отодвигается, поскольку ваш мозг автоматически корректирует изменения образа, вызванные вашими действиями, а иногда и те изменения, которые от вас не зависят — например, в освещении. Константность восприятия наблюдается у достаточно широкого спектра животных, в том числе осьминогов и некоторых пауков — наряду, естественно, с позвоночными. Эта способность, по-видимому, возникла независимо в нескольких различных группах.
Другой путь эволюции опыта ведет к интеграции . Потоки информации, поступающие от разных чувств, объединяются в целостную картину. Наш собственный пример живо иллюстрирует это: мы ощущаем мир таким способом, который связывает то, что мы видим, с тем, что мы слышим и осязаем. Наш опыт, как правило, представляет собой целостные образы.
Это может показаться неизбежным следствием того, что глаза и уши у нас приделаны к общему мозгу, однако это не так. Это всего лишь один из способов «подключения», и есть животные, у которых единство опыта обеспечивается несравненно хуже нашего. Например, у многих животных глаза расположены по бокам головы, а не фронтально. В таком случае у каждого глаза отдельное поле зрения и каждый связан лишь с одним полушарием мозга. С таким животным ученым легко проводить опыты — можно воздействовать лишь на одно полушарие, прикрыв животному один глаз. Тогда можно задаться вопросом, на который как будто бы есть очевидный ответ: если показать что-то только одному полушарию, получит ли эту информацию другое полушарие? Мы не рассматриваем раненых или прооперированных животных — пусть естественная связь между полушариями не будет нарушена. Логично предположить, что информация будет передаваться. С чего бы эволюции распорядиться так, чтобы только половина животного понимала, что оно видит? Но когда этот вопрос стали изучать на голубях, оказалось, что информация не передается [98] См. Laura Jiménez Ortega et al., «Limits of Intraocular and Interocular Transfer in Pigeons», Behavioural Brain Research, 193, no. 1 (2008): 69–78.
. Голубей обучали выполнять простое задание, закрыв им один глаз, затем каждого голубя экзаменовали на то же самое задание так, чтобы он смотрел другим глазом. В опыте с девятью птицами восемь не продемонстрировали никаких признаков «межглазной передачи». Навык, которому вроде бы обучалась птица целиком, на самом деле был доступен лишь половине птицы — вторая половина о нем понятия не имела.
Такие опыты проводились и на осьминогах [99] См. W. R. A. Muntz, «Interocular Transfer in Octopus: Bilaterality of the Engram», Journal of Comparative and Physiological Psychology, 54, no. 2 (1961): 192–195.
. Осьминог, обученный решать визуальные задачи с одним закрытым глазом, поначалу вспоминал решение только тогда, когда видел задачу тем же глазом, что и раньше. После дополнительного обучения они стали справляться с задачей, глядя другим глазом. Осьминоги отличались от голубей в том, что какая-то доля информации все же передавалась, но они отличались и от нас, поскольку передавалась она нелегко. Позже зоологи, в частности Джорджио Вальортигара из Университета Триеста, открыли множество других подобных «разрывов» в процессе обработки информации, связанных с тем, что мозг разделен на два полушария [100] См. G. Vallortigara, L. Rogers, and A. Bisazza, «Possible Evolutionary Origins of Cognitive Brain Lateralization», Brain Research Reviews, 30, no. 2 (1999): 164–175.
. Многие виды, по-видимому, более чутко реагируют на появление хищников в левом поле зрения. Некоторые виды рыб и даже головастиков предпочитают держаться так, чтобы видеть сородичей слева от себя. С другой стороны, когда речь идет о поиске пищи, многие животные лучше воспринимают то, что находится справа от них.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу