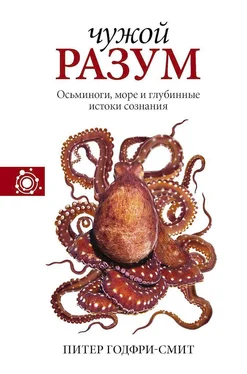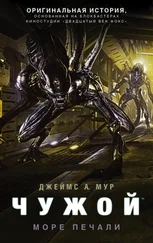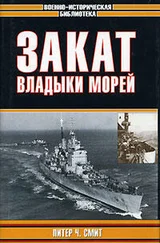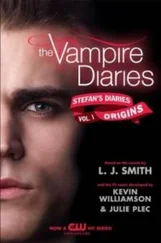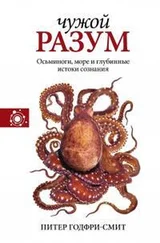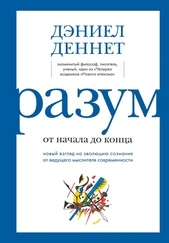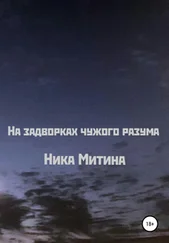Мне кажется, Мильнер и Гудейл подразумевают, что «никаково». Опыту в данном случае нет места, поскольку механика зрения у лягушек не работает так, как у нас, и не делает того, что у людей порождает субъективный опыт.
Рассуждения Мильнера — Гудейла иллюстрируют идею, которую сейчас разделяют многие специалисты в этой области. Чувства могут выполнять свою основную функцию, а действия — осуществляться «молча», без участия переживаемого организмом опыта. Затем на определенной стадии эволюции появляются дополнительные возможности, из которых вырастает субъективный опыт: каналы сенсорного восприятия объединяются, возникает «внутренняя модель» мира, а затем осознание времени и себя.
С этой точки зрения переживаемый нами опыт — это и есть внутренняя модель мира, которую формируют и поддерживают сложные процессы внутри нас. Ощущение возникает здесь — или, по крайней мере, оно начинает зарождаться с зарождением этих способностей — в мозгу мартышек и человекообразных, дельфинов, может быть, других млекопитающих и некоторых видов птиц. Согласно этому мнению, размышляя о субъективном опыте более примитивных животных, мы наделяем их бледным подобием нашего собственного опыта. Но это неверно, поскольку наш опыт зависит от свойств организма, которых у этих животных просто нет.
Сходную точку зрения отстаивает нейрофизиолог Станислас Деан, в чьей лаборатории под Парижем проведен ряд самых передовых исследований по этой части за последние двадцать лет [106] См. его книгу: Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли / Пер. с англ. И. Ющенко. М.: Карьера-пресс, 2018. Подробное обсуждение опытов с морганием, описанных ниже, см. в статье: Robert Clark et al., «Classical Conditioning, Awareness, and Brain Systems», Trends in Cognitive Sciences, 6, no. 12 (2002): 524–531.
. Деан и его коллеги многие годы изучают восприятие на границе сознания — образы, которые появляются и исчезают слишком быстро, чтобы подопытный осознал, что он видит, или показанные в момент, когда внимание отвлекается, и тем не менее отражающиеся на мыслях и поступках. Оказывается, мы нередко обрабатываем эту «внеопытную» информацию довольно сложными методами. Например, некая последовательность слов может промелькнуть так быстро, что человек вообще не догадывается о том, что ему что-то показали. Но на последовательности с нелогичными смыслами — вроде «счастливая война» — мозг реагирует иначе, чем на сочетания слов более осмысленного характера («злосчастная война»). Казалось бы, для различения подобных смыслов необходимо сознание, но оказывается, что это не так.
Как полагает Деан, мы способны делать многое без участия сознания, но не всё. Мы не можем бессознательно справиться с новой, непривычной задачей, которая требует поэтапного решения — череды действий. Мы можем бессознательно обучиться ассоциации опыта — например, ожидать А при появлении Б, но только если А и Б близко соседствуют. Если они отстоят друг от друга достаточно далеко, мы можем научиться ассоциировать их лишь сознательно. Можно научиться моргать, когда зажигается лампочка, если вам после этого дуют в глаз, но только если дунут сразу. Если свет и дуновение разделены промежутком длиной около секунды, ассоциации уже нельзя обучиться бессознательно. Достижение последних трех десятилетий, как полагает Деан, — открытие определенного типа обработки информации, который мы применяем, когда дело касается времени, последовательностей и новизны . Он ведет к сознательности, тогда как большинство других сложных видов деятельности мозга обходятся без нее.
Еще в 1980-е годы, в рамках одной из первых попыток современной науки объяснить сознание, нейрофизиолог Бернард Баарс ввел теорию глобального рабочего пространства [107] По-русски иногда ошибочно переводят как «глобальная теория рабочего пространства». — Примеч. пер.
. Баарс предположил, что мы сознательно воспринимаем ту информацию, которая доставляется в централизованное «рабочее пространство» в мозгу [108] A Cognitive Theory of Consciousness (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1988). Неизданный русский перевод А. А. Алексеева см. на портале РГПУ им. А. И. Герцена: https://www.herzen.spb.ru/uploads/petryarkin/files/Баарс_когнитивная_теория_сознания. pdf .
. Деан усвоил и развил эту концепцию. Смежное теоретическое направление утверждает, что мы осознаем ту информацию, которая поступает в рабочую память , особый тип памяти, который хранит непосредственные запасы образов, слов и звуков, которыми мы оперируем и которые соотносим с проблемами. Мой коллега из Городского университета Нью-Йорка Джесси Принс отстаивает подобную точку зрения [109] См. Jesse Prinz, The Conscious Brain: How Attention Engenders Experience (Oxford and New York: Oxford University Press, 2012).
. Если предположить, что для субъективного опыта необходимо глобальное рабочее пространство, или особый тип памяти, или еще какой-то механизм в этом роде, из этого следует, что только сложный мозг, достаточно близкий к нашему, способен порождать самоощущение. Вероятно, такой мозг есть не только у человека, но выборка ограничится млекопитающими и птицами. В результате мы имеем то, что я называю теорией позднего пришествия субъективного опыта [110] Подробнее об этой концепции см. в моей статье «Animal Evolution and the Origins of Experience».
. Эта теория не считает, что озарение вспыхнуло внезапно, однако придерживается того мнения, что оно произошло поздно по эволюционным меркам и стало возможным благодаря особенностям, которые достоверно наблюдаются только у таких животных, как мы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу