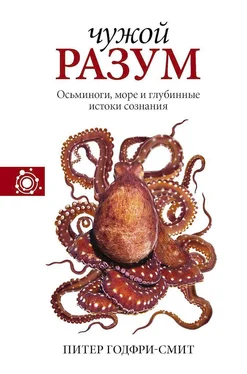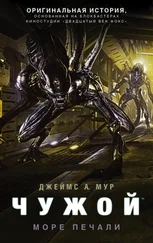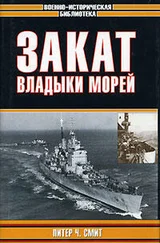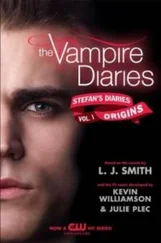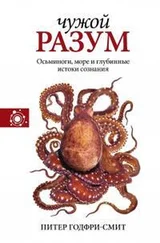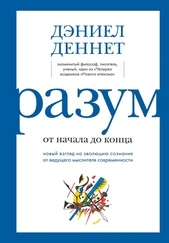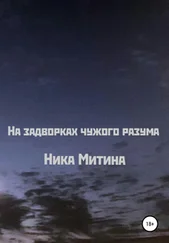Если так, можно набросать некоторые предварительные выводы о первых животных, наделенных нервными системами, о которых шла речь в главе 2. Предположим, основной функцией древних нервных систем и в самом деле было всего лишь поддержание целостности тела животного и скоординированности его действий. Современной иллюстрацией могут послужить ритмичные сокращения мышц колокола у плывущей медузы, и в ту же категорию попадают эдиакарские животные с их, вероятно, необщительным образом жизни. На этой стадии нервная система занята преимущественно тем, что порождает и поддерживает деятельность, а управление этой деятельностью играет куда менее заметную роль. Тогда, возможно, это и есть форма животной жизни, которая никак себя не ощущает. Следовательно, начало простейшего переживания опыта следует отсчитывать от кембрия, когда стал богаче репертуар форм взаимодействия с окружающим миром [114] Тут существует множество вариантов. Возможно, неверно усматривать начало субъективности на этой стадии и скорее произошло количественное и качественное изменение. Более радикальные варианты обсуждаются в моей статье «Mind, Matter, and Metabolism» в The Journal of Philosophy .
.
Это начало не было одномоментным событием и даже единым длительным процессом, протекавшим на одном пути эволюции. Скорее таких процессов было несколько и они происходили параллельно. К началу кембрия многие из разнообразных типов животных, которых я рассматриваю в этой главе, уже отделились друг от друга — разделения, по-видимому, произошли еще в эдиакарский период, в более мирных условиях. К этому времени будущие позвоночные уже вступили на свой путь (или пути), а членистоногие и моллюски — на свои. Предположим, и у крабов, и у осьминогов, и у кошек есть некая форма субъективного опыта. Тогда этот признак возникал независимо как минимум трижды, а возможно, и намного больше трех раз [115] Здесь я постулирую, что общий предок первичноротых и вторичноротых был примитивным и вел примитивный эдиакарский образ жизни. Как я уже писал выше, некоторые считают, что это животное было сложным и обладало, по выражению Габриэллы Вольф и Николаса Штраусфельда, «исполнительным мозгом», отвечавшим за выбор действия: см. Gabriella Wolff and Nicholas Strausfeld, «Genealogical Correspondence of a Forebrain Centre Implies an Executive Brain in the Protostome-Deuterostome Bilaterian Ancestor», Philosophical Transactions of the Royal Society B, 371 (2016): 20150055. Их доводы основываются на сходстве мозга современных позвоночных и членистоногих (например, насекомых). Любопытно, что мозг головоногих они считают действительно новым изобретением эволюции, даже если у человека и насекомых он является развитием одной и той же предковой модели: «Для головоногих моллюсков все данные решительно указывают на то, что аналогичные виды поведения, управляемого нейросетями, развились у них совершенно независимо из иных предковых форм». Однако тут встает вопрос: последний общий предок человека и осьминога — то же самое животное, которое было последним общим предком осьминога и насекомых. В рамках их теории получается, что моллюски утратили унаследованный от предка «исполнительный мозг», а головоногие затем развили его заново.
.
Позднее, с подключением механизма, описанного Деаном, Баарсом, Мильнером и Гудейлом, появляется целостная картина мира и более определенное ощущение себя. Мы приближаемся к сознанию . Мне этот переход не видится как одномоментный, четко различимый шаг. Скорее я рассматриваю «сознание» как путаное и затасканное, но все же полезное понятие для обозначения тех форм субъективного опыта, которые так или иначе обладают единством и связностью. В данном случае также весьма вероятно, что переживание подобного рода возникало в ходе эволюции независимо несколько раз: от белого шума через древние примитивные формы опыта к сознанию.
Вернемся к осьминогу, нашему необычайному и исторически важному животному. Где ему место в этой картине? На что похож его опыт? [116] Две новаторские работы на эту тему — Jennifer Mather, «Cephalopod Consciousness: Behavioural Evidence», Consciousness and Cognition, 17, no. 1 (2008): 37–48; Edelman, Baars, and Seth, «Identifying Hallmarks of Consciousness in Non-Mammalian Species», Consciousness and Cognition, 14 (2005): 169–187.
Осьминог, во‐первых, представляет собой организм с развитой нервной системой и сложным активным телом. У него богатые сенсорные способности и уникальные поведенческие. Если некая форма субъективного опыта возникает вместе с чувством и действием в живой системе, то у осьминога с ее наличием все в порядке. Но и это не все. У осьминога — в трудноуловимой, инопланетной форме — присутствуют некоторые усовершенствования, выходящие за пределы элементарного минимума, о котором шла речь в этой главе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу