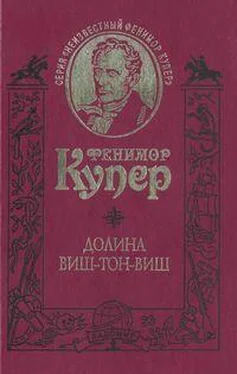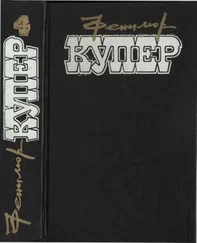Время не произвело слишком разительных перемен в облике Контента. Правда, цвет его лица стал еще более смуглым, а тело начало несколько терять свою гибкость и непринужденность движений, обретя степенность, присущую среднему возрасту. Но управляемый темперамент человека всегда держал животное начало в более чем привычной покорности. Даже в свои более ранние дни он скорее обещал проявить, чем обнаруживал на деле обыкновенные черты юношеского возраста. Серьезный настрой души уже давно определил соответствующий физический склад. Имея в виду его внешность и пользуясь языком живописца, можно сказать, что, не произведя никаких перемен в облике и пропорциях, время смягчило краски, если немного седых волос серебрилось здесь и там вокруг его чела, это было похоже на то, как мох скапливается на камнях здания, свидетельствуя скорее о его возросшей устойчивости и испытанной прочности, чем указывая на какие-то симптомы разрушения.
Не так обстояло дело с его милой и преданной половиной. Та мягкость и миловидность, которые некогда тронули сердце Контента, были все еще видны, хотя сопровождались следами постоянного и разъедающего горя. Свежесть молодости исчезла, а ей на смену пришла более устойчивая и, в ее случае, более трогательная красота выражения. Взгляд Руфи нисколько не утратил своей мягкости, а ее улыбка все еще оставалась сердечной и привлекательной, но этот взгляд часто бывал страдающе-безучастным, как бы устремленным внутрь — на те тайные и иссушающие источники печали, которые глубоко и почти непостижимо укоренились в ее сердце, тогда как улыбка напоминала холодный блеск той планеты, что освещает предметы, отбрасывая заимствованное сияние от своего собственного лона. Однако величавость матроны, женственная лучистость черт лица и мелодичный голос сохранились. Но первая была подорвана до такой степени, что находилась на грани преждевременного увядания; ко второй в ее самых благожелательных проявлениях примешивалась беспокойная озабоченность; а последний редко обходился без того испуганного дрожания, которое так глубоко затрагивает чувства, позволяя понять смысл, не передаваемый словесно.
И все же беспристрастный и заурядный наблюдатель не мог бы не заметить в поблекшей миловидности и увядающей зрелости матроны нечто большее, нежели каждодневные признаки, выдающие поворот в течении жизни человека. Как подобает такой личности, оттенок печали был нанесен рукой слишком деликатной, чтобы его мог заметить любой вульгарный взгляд. Подобно мазку мастера в искусстве, ее горе не нуждалось в сочувствии и было недоступно восприятию тех, кого неспособно взволновать мастерство или в ком равнодушие убивает чувства. Однако она питала искреннюю привязанность ко всем, кто мог хоть как-то притязать на ее любовь. Преобладание опустошающего горя над более жизнелюбивыми источниками ее радостей лишь доказывало, насколько сильнее влияние великодушных, нежели эгоистических черт нашей природы в сердце, которое по-настоящему наделено нежностью. Вряд ли нужно говорить, что эта добрая и верная женщина скорбела о своем ребенке.
Знай Руфь Хиткоут, что ее девочки нет в живых, ей с ее верой было бы нетрудно положить свою скорбь на алтарь надежд, вполне правомерных над могилой невинного ребенка. Но мысли о том, что ее дитя могло быть осуждено на смерть заживо, редко покидали ее. Она вслушивалась в сентенции о смирении, стекавшие с губ, которые она любила, с преданностью женщины и кротостью христианки, но потом, даже если уроки святости еще звучали в ее внимающей душе, действие непобедимой природы снова возвращало ее к материнскому горю.
Воображение этой преданной и женственной натуры никогда не обладало чрезмерной властью над ее разумом. Ее представление о счастье с человеком, которому она, и по своему разумению, и по своим склонностям, доверяла, подтверждалось и жизненным опытом, и религией. Но теперь ей было суждено узнать, что в скорби есть устрашающая поэзия, способная с изяществом и силой воображения нарисовать такое, с чем никогда не сравняться более жалким усилиям подогретой фантазии. Она слышала нежное дыхание своего витающего в сновидениях ребенка в шепоте летнего ветерка; его плач достигал ее ушей среди завываний бури, в то время как нетерпеливый вопрос и ласковый ответ вторгались в самые обыденные разговоры домашних.
Для нее счастливый детский смех, часто доносившийся из деревни в тихом вечернем воздухе, звучал подобно рыданию, и редко игры детей, привлекавшие ее взгляд, не доставляли ей мучительных страданий. Дважды со времени событий, связанных с вторжением, она становилась матерью, и, словно вечному недугу было предназначено разрушать ее надежды, крошечные создания, которым она дала жизнь, спали бок о бок вблизи от цоколя разрушенного блокгауза. Она часто приходила сюда, но это было скорее жертвоприношение жестоким образам ее воображения, чем скорбь. Посещавшие ее видения смерти были мирными и даже утешительными, но если иногда ее мысли возносились к обители вечного покоя, а ее слабая фантазия пыталась представить во плоти образ благословенного ребенка, ее умственный взор чаще искал ту, которой не было, чем тех, чью жизнь считали счастливой и безопасной. Какими бы изнурительными и обманчивыми ни были эти мимолетные образы, существовали и другие, гораздо более мучительные, потому что их возникновение было связано со многими грубыми и конкретными картинами этого мира. По общему, а может быть, и самому искреннему убеждению жителей долины, смерть своевременно оборвала судьбу тех, кто попал в руки Дикарей в момент вторжения.
Читать дальше