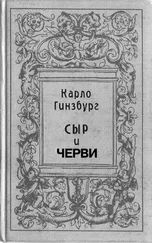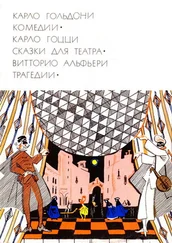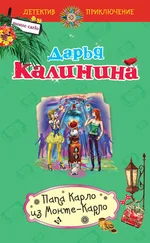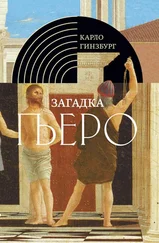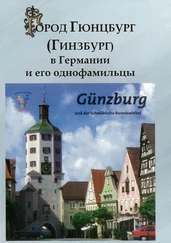2. Здесь нужно кое-что прояснить. С самого начала моей деятельности как историка я считал само собой разумеющимся, что формулируемые мной аргументы, дабы претендовать на истинность, должны подтверждаться уликами, свидетельствами. Тем не менее в 1980-е гг. я осознал, что интеллектуальная атмосфера изменилась до такой степени, что понятие исторической истинности больше не являлось бесспорным. Это запоздалое ощущение усилилось, когда я начал преподавать в UCLA (Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе). Обыкновенно в североамериканской академической среде произнесение слова «истина» в то время всегда сопровождалось характерным жестом, означающим кавычки. Как я с изумлением обнаружил, самые блестящие студенты были очарованы неоскептиками, утверждавшими, что никаких строгих границ между фикциональным и историческим повествованием не существовало. В 1989 г. Хейден Уайт, самый влиятельный поборник неоскептического подхода, прочел в UCLA лекцию о повествованиях и исторической истине. Как только началась дискуссия, я вступил с ним в горячий и энергичный (в рамках приличий) спор в присутствии огромной аудитории. Мой друг и коллега Саул Фридлендер, в то время писавший свою великую работу «Нацистская Германия и евреи», после дебатов сказал мне: «Мы должны организовать конференцию о влиянии неоскептического подхода на восприятие историками Холокоста» 93. Именно это он и сделал; конференция прошла в 1990 г. (по ее итогам был издан сборник под названием «Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution“» («Исследуя границы репрезентации. Нацизм и „Окончательное решение“») (1992). В своей статье я вновь, и в еще более сильных выражениях, атаковал аргументы Хейдена Уайта. Я напомнил, что в одной из опубликованных за несколько лет до этого работ Уайт так прокомментировал знаменитое отрицание Робером Фориссоном факта уничтожения евреев: я считаю это отрицание нравственно низким и политически отвратительным, однако не могу доказать обратного. «Не могу доказать обратного»? Ремарка Уайта показалась мне невероятной. Я не собираюсь пересказывать здесь критику, содержавшуюся в моей статье 94. Я просто хочу заметить, что публичный спор с Хейденом Уайтом о доказательстве и опровержении случился за год до выхода «Судьи и историка», оказав влияние на содержание книги (в одном из примечаний к итальянскому изданию я упомянул об отданной в печать статье, в основу которой лег мой доклад на конференции). Доказательство стало материей, весьма чувствительной для международного сообщества историков, поэтому акцент на поиске доказательств как точке схождения между судьями и историками в то время отнюдь не был банальным. Быть может, он до сих пор не является банальным. Я подозреваю, что методологическая рефлексия, присутствующая в моей книге, способна служить противоядием в нынешней интеллектуальной и политической атмосфере, по-прежнему отравленной радикальным скептицизмом, о котором я упоминал выше.
3. Я сказал «сходства и различия между судьями и историками». Различия вполне очевидны: не предполагается, что историки должны выносить вердикты, затрагивающие человеческие судьбы, – если, конечно, они не выступают судебными экспертами, как это случилось с американским историком Робертом Пакстоном в 1997 г. на процессе против Мориса Папона, французского чиновника, который во время Второй мировой войны был ответственным за депортацию около двух тысяч евреев. Ограниченность так называемой «судебной истории», т.е. науки, сосредоточенной исключительно на биографии хорошо известных людей и призванной обвинить или оправдать их, очевидна. В книге я вспоминаю, что Марк Блок в рассуждениях об историческом методе, напечатанных уже после его смерти, с иронией писал: «Сторонники Робеспьера, противники Робеспьера, помилуйте: Бога ради, просто расскажите нам, кто такой Робеспьер». Намного менее ясны сходства между судьями и историками. И те и другие занимаются поиском истины без кавычек, хотя выводы историков теоретически могут быть пересмотрены другими исследователями; выводы же судей, в течение предусмотренного законом промежутка времени, – нет.
Что же побудило меня отметить точки схождения между судьями и историками? На первый взгляд, ответ очевиден: пристальное чтение материалов судебного процесса, только что прошедшего в Милане, подразумевало, что я заново делаю за судей их работу, притом что я пришел к совершенно иному (на самом деле противоположному) выводу. Впрочем, я также осознавал, что мой подход к процессу оказался связан с моим личным опытом как историка, с десятилетиями, которые я потратил на работу с документами, произведенными Римской инквизицией. Характерным образом «Судья и историк» начинается со слов о «легком ощущении дезориентации» из-за неожиданного сходства между хорошо знакомыми мне старыми и новыми документами. И те и другие обладали одной общей формальной чертой – я бы сказал, диалогической структурой, отсылая к понятию, предложенному Михаилом Бахтиным, русским литературоведом и теоретиком, чьи труды оказали на меня большое влияние.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу