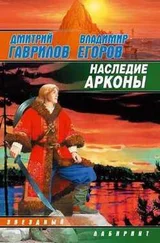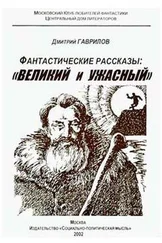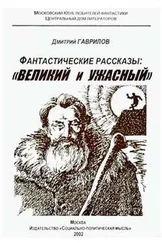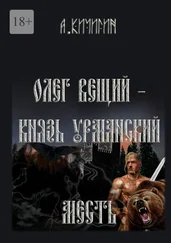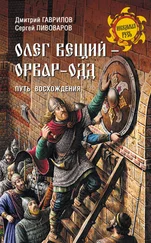Они люди сильные, крепкие, которые путешествуют пешком в отдаленные страны для набега. Они путешествуют также на кораблях по Каспийскому морю, захватывают корабли, грабят товары. Они путешествуют до Константинополя по Черному морю, несмотря на то что в его заливе имеются цепи. Однажды они путешествовали по Каспийскому морю и завладели на некоторое время Бердаа. Их храбрость и мужество известны, и один человек из них равен нескольким людям из всех [других] народов. И если бы у них были лошади и они были бы всадниками, то они были бы бедой для людей» (Марвази, 1959).
У аль-Масуди (ок. 896–956), описывающего события начала X века со значительным опозданием, по мере того как вести доходили до него в Египет (в г. Фустат, совр. Каир), мы, вероятно, обнаруживаем этого Була(д)мира Дира, на время вытеснившего каким-то образом из Киева зачинавшуюся династию самозванца Олега-Одда:
«…Первый из славянских царей есть царь Дира (или Алдира, Дина или Алдин), он имеет обширные города и многие обитаемые страны; мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с разного рода товарами…» (Гаркави, 1870, с. 129–138).
Кстати, обратим внимание, что город Дира, по аль-Масуди, посещают именно мусульманские купцы. К чему бы это особо указывать? Только в том случае, если сам по себе город, в котором правит царь-мусульманин, всё-таки не является мусульманским по вере и населению.
Впрочем, он, разумеется, не является по вере и христианом!
Есть не лишённое оснований мнение о том, что известие о принятии русами христианства в 912–913 годах следует отнести всего лишь к оглашению христианами Олеговых послов:
«Подписание договора 912 г. между князем Олегом и Византией ознаменовалось знакомством русов с новой религией, которое нашло отражение в тексте ПВЛ. Император Лев VI обратил особое внимание на русских послов и “пристави к ним мужи своя… учаще я к вере своей и показующе им истинную веру”. Очевидно, что данное сообщение стоит воспринимать в контексте церковной практики X века. В это время ещё не существовало каких бы то ни было “экскурсий” по храмам. Поэтому выражение “учаще я к вере своей” должно восприниматься как намёк на оглашение, катехизацию, которое приобщало послов к Церкви и, возможно, причисляло их к разряду “некрещёных христиан” через совершение обряда primo signatio (consignatio) и включение в первую ступень катехумената [27] Катехуменат (позднелат. catechumenatus, от греч. κατηχούμενος) – происходящая в Церкви подготовка к принятию крещения. На период катехумената оглашенные могут присутствовать на всех богослужениях, включая литургию, однако не могут участвовать в церковных таинствах. «Кричать, как оглашенный» – в этой метафоре слово «оглашенный» употреблено в значении человека, ведущего себя бестолково и шумно. Когда оглашенных спрашивали в храме, готовы ли они уверовать в Христа, те громко и радостно выражали свой восторг по этому поводу.
. В свете предлагаемого понимания текста совершенно по-иному выглядит сообщение ряда арабских авторов (Ал-Марвази, Ауфи) о принятии русами христианства в 300 год хиджры (912/913 г. н. э.). По сути дела, мы имеем подтверждение факта оглашения русов в момент посольства 912 г. в независимых источниках» (Мусин, 2002, с. 63).
Кстати, такое же «неполное крещение» применялось и к викингским торговцам. И, вероятно, «христианство некрещёного» Одда того же порядка (см. раздел «Вера Орвар-Одда»).
Интерпретацию о «вере, вложившей мечи русов в ножны», следует связать в таком случае с тем обстоятельством, что после исчезновения столь яркой и сильной фигуры, как Олег Вещий (Орвар-Одд), с исторической сцены Древнерусского государства какой-то период русам было не до походов. Шёл передел власти.
И здесь самое время вернуться к последовательности упоминания имён детей Одда и Силкисив в саге. Первым упоминается Асмунд.
Если Асмунд (Олег Младший) старше своего брата Херрауда (Игоря Младшего), в таком случае не вполне понятно, почему Олег II предъявляет киевлянам именно Игоря. На какие права Игоря ссылался Олег II? Почему после гибели Олега II князем в Киеве становится Игорь?
Кроме того, разве для Одда (Вещего Олега) назвать именем тестя (Херрауда Старшего) не логичнее именно первенца?
У скандинавов не было принято называть новорождённых в честь живых старших родичей. Впрочем, Херрауд на момент рождения внуков точно умер.
Первенец получает скандинавское имя в память о побратиме и друге детских лет Одда Асмунде, а славянское – такое же, как у отца. Второго, младшего сына Одд-Олег называет Херраудом-Игорем, в честь усопшего тестя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дмитрий Гаврилов Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] обложка книги](/books/433849/dmitrij-gavrilov-oleg-vechij-orvar-cover.webp)