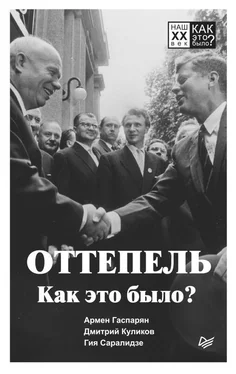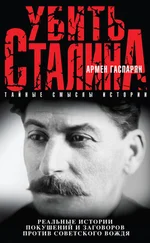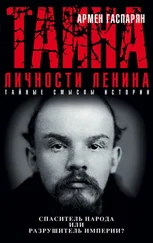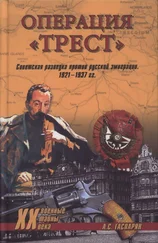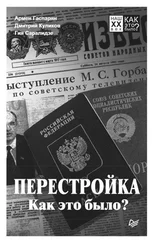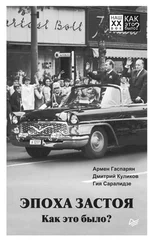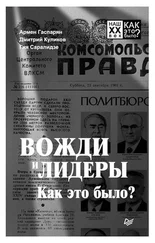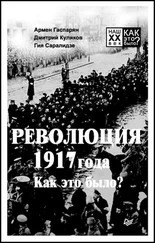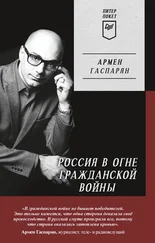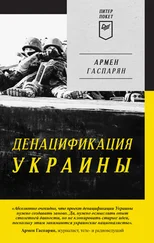Г. Саралидзе:По поводу культурного слоя оттепели я с Арменом абсолютно не согласен. Я считаю, что основной фактор здесь – это ослабление цензуры. Появилась возможность говорить и писать о том, что видишь вокруг. И многие произведения, которые создавались либо во время оттепели, либо после, являясь продуктом происходивших тогда процессов, дают представление о том, какой была страна, какие были люди. О чем они думали, как жили.
А. Гаспарян:Инструкции цензоров не менялись с 1940-х годов.
Г. Саралидзе:Они не менялись, но согласись, что позволено было больше.
А. Гаспарян:Чуть больше. Но суть от этого не сильно поменялась.
Г. Саралидзе:На мой взгляд, как раз-таки сильно поменялась. И то, о чем рассказывали люди творческие, не сочеталось с тем, что происходило в реальности. Это касалось не только международной политики, но и ситуации внутри страны. Люди читали, думали и понимали, что теперь мы идем в другую сторону, мы же отказались от чего-то. А наверху практически все осталось, как было. Разве что при Сталине много сажали – при Хрущеве сажают меньше. Дима по поводу гонений на религию сказал, он абсолютно прав. Было гораздо жестче, но другое дело, что не расстреливали. Сажали в основном. И громили.
А. Гаспарян:Я опять же поспорю, потому что существуют, например, произведения Булгакова, написанные в конце 1920-х годов, которые были запрещены тогда для широкой общественности. Ну и ничего.
Г. Саралидзе:Запрещены для широкой общественности – вот ключевые слова.
А. Гаспарян:А что, во времена Хрущева все было можно?
Г. Саралидзе:Нет, не все.
А. Гаспарян:Запрещали с таким же упрямством и упорством.
Г. Саралидзе:Запрещали. Но было можно больше. И мне кажется, с одной стороны, открыли эти клапаны в творчестве. А с другой стороны, «сверху» было закрыто так, что даже пар, который создавался, некуда было девать. Не говоря уже о том, чтобы куда-то двигаться.
Д. Куликов:Тут еще один момент. Вот в чем, наверное, Армен прав: происходит смена поколений и смена эпох. Это естественная часть исторического процесса. И к 1960-м годам выросли дети, даже внуки революционеров, и дети победителей, стали старше и сами победители. Они получили образование, между прочим.
Г. Саралидзе:Там были люди, которые могли потреблять то, что производили творцы. Которые могли это осмысливать. С этим я абсолютно согласен.
Д. Куликов:Так вот их и не было в 1920-х и 1930-х годах.
А. Гаспарян:Согласен.
Г. Саралидзе:Да, конечно.
Д. Куликов:То есть структура социума «естественным» образом развилась до этого в результате сталинского проекта. Ведь ничего нового не появилось ни в образовании, ни в здравоохранении, ни в культуре, ни в искусстве. Просто сталинский проект до этого дошел. Он произвел образованное население. А потом «элитка», «номенклатурка» вместо того, чтобы понять, что ситуация изменилась и надо менять принципы управления, принципы политики, ничего не делала.
Карибский кризис: ядерное оружие не для того, чтобы им любоваться
Г. Саралидзе:Сейчас, в связи с непростой международной обстановкой, очень часто вспоминают события октября 1962 года – Карибский кризис. Интересно, что российские историки началом Карибского кризиса, как правило, считают 14 октября 1962 года, а в американской историографии говорится о 13 днях – с 16 по 28 октября. 14 октября самолет-разведчик U-2 ВВС США в ходе облетов Кубы (а они действительно регулярно летали у Острова свободы) обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль советские ракеты средней дальности Р-12. Вот с этого момента и начался Карибский кризис. А что, собственно говоря, к этому привело? Из чего исходило политическое руководство Советского Союза, как на это реагировала администрация президента Соединенных Штатов Америки?
А. Гаспарян:Меня удивляет, что это произошло только 1962 году, потому что мир после Второй мировой войны сразу же перешел в фазу холодной войны. Когда испытывают ядерное оружие, понятно, что делается это не для того, чтобы просто держать его в ангаре. Его собираются применять. Тем более что эксперты на Западе искренне полагали, что сокрушить ненавистный всем коммунизм можно, надо лишь нанести удар по 24 городам Советского Союза. Эти планы активнейшим образом разрабатывались в Пентагоне, более того, они постоянно обсуждались в американской печати. Масла в огонь подливала русская эмиграция теперь уже второй волны. По сути, всем нужен был какой-то повод, чтобы перевести идеологическую конфронтацию в горячую фазу. Ситуация тянулась до 1960-х годов. Конфликт мог произойти и раньше, другой вопрос, что у американцев не все так благополучно складывалось. Но то, что у них была решимость вооруженным путем решить проблему противостояния с Советским Союзом – это правда. И в Советском Союзе прекрасно понимали, что противостояние двух идеологически полярных центров можно разрешить, наверное, только силовым путем. Мир шел к этому планомерно, и Карибский кризис просто показал, что больше шутить уже никто не хочет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу