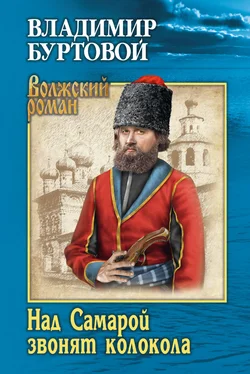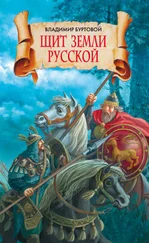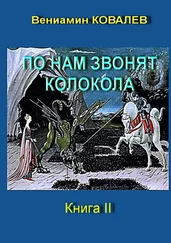– Боже мой… Устиньюшка! – вырвалось невольное восклицание у Тимофея Рваного, а капрал с солдатами, оцепенев и не зная, что им делать дальше, пораскрывали рты. – Здравствуй… в последний раз, моя царица… Сколь годов видясь с тобой в крепости на твоих прогулках, говорили только глазами, а вслух ни словечка… Неужто пришел твой смертный час и ты теперь рядом со своим государем у престола божьего стоишь и ответ держишь за свою безвинно погубленную жизнь…
Капрал осмелился тронуть сумасшедшего, как ему показалось, мужика, сказал:
– Слышь, брат, нам ведь ее хоронить надобно тайно, без постороннего глаза. Неужто знаешь, Тимофей, кто она?
– Знаю, Игнат, еще как знаю… Снимите шапки, братцы… Это Устинья Петровна, нареченная государем Петром Федоровичем в русские императрицы… Вот вам, Игнат, все деньги, что у меня есть, возьмите. Ройте могилу, а я с ней побуду в последний ее час… Это для тебя, Устиньюшка, благовестят в церкви, для тебя, многострадальная и непорочная душа…
Пораженные солдаты, воротясь в крепость, не утаили в секрете небывалого случая, а потому уже наутро капрал Игнат Колотовкин стоял перед комендантом и твердил, что сумасшедший человек был на том захоронении, не иначе, коль арестантку именовал государыней императрицей и с ее могилы положил себе в шапку горсть земли…
Посланные на поимку Тимофея Рваного жандармы нашли подворье пустым, а дом брошенным в великой спешке… С той поры человек со шрамом по имени Тимофей Рваный, в Кексгольме проживший тридцать лет, в своем доме не объявлялся. Капрал Игнат Колотовкин за упущение по службе был разжалован в рядовые и отправлен в один из сибирских гарнизонов, а начальство строго-настрого наказало солдатам и офицерам крепости молчать о происшедшем. Да шила в мешке не утаишь. И разошелся по народу слух, будто на захоронении Устиньи Кузнецовой был если не сам, вновь счастливо избежавший смерти, государь Петр Федорович, то уж наверное кто-то из его верных и отважных атаманов-казаков…
3
Чуть слышно журчит река, у самого истока разделяясь на два широких рукава и уходя к недалекому отсюда Ладожскому озеру: из озера выше лежащего в озеро ниже его по уровню…
Тяжелая, как старинный броненосец, Кексгольмская крепость, обложенная мрачным серым камнем, с угрюмой круглой башней у главных ворот, безлюдная в вечерние часы, когда уходят отсюда последние туристы, давит на душу и этими серыми камнями и темными, уходящими в глубину стен окнами-дырами, в которые отсюда, с залитого солнцем двора, заглядывать и то страшно. А каково же было людям там, внутри, да не день, не два, а тридцать и более лет?..
Земляной вал, укрепленный снаружи камнем, круглая башня, рядом с ней квадратный, с полукружьем в дальнем конце каземат, дом для гарнизонных солдат, где теперь краеведческий музей, трое ворот из крепости – одни большие, парадные, и двое для повседневных надобностей… Восточная часть крепости – двор примерно семьдесят на восемьдесят шагов…
В этой круглой башне они и жили с 1775 года, две законные, две венчанные жены Емельяна Ивановича Пугачева: первая – из донских казачек Софья с сыном Трофимом и дочками Аграфеной и Христиной и вторая – дочь уральского казака Устинья Кузнецова, на всю Россию объявленная императрицею.
О чем они говорили, прожив бок о бок тридцать лет? О неудавшихся личных судьбах? О Емельяне Ивановиче, мужицком царе, который вознамерился было порушить зло на земле и дать черному люду волю? Или обсуждали горести текущего дня, терпели унижения, позорные насмешки надзирателей, сообща в бессильной ярости оплакивали судьбу безвинных детей, проклинали коменданта крепости Гофмана, который надругался над Аграфеной, старшей дочерью Емельяна Ивановича?
О чем они думали? Ждали чуда – амнистии? Им обещали переселение на посад при императоре Павле, им обещали жительство на воле при Александре Первом, а время шло тихо, неукротимо… Не стало обеих жен, помер сын Трофим… И вот, можно сказать, последнее известие о судьбе кексгольмских узников.
Из дневника Александра Сергеевича Пушкина от 17 января 1834 года: «Бал у гр. Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем “Пугачеве”, он сказал мне: “Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости…”»
Николай Первый ошибался, говоря о сестрице Емельяна Ивановича. Это была его дочь Аграфена, и умерла она не за три недели до памятного разговора, а 5 апреля 1833 года, прожив в крепости почти шестьдесят лет!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу