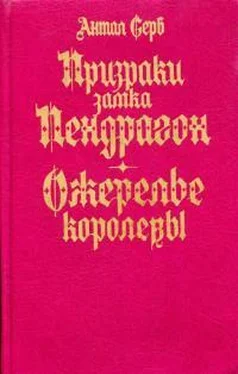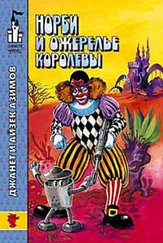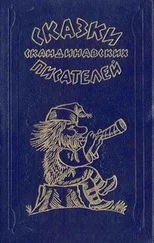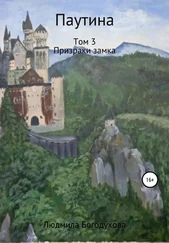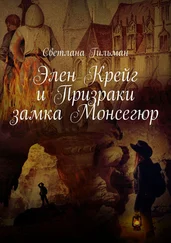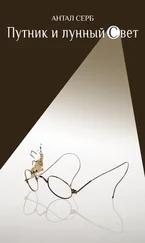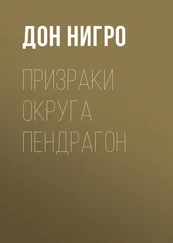И тогда со всей очевидностью понимаешь: эта эпоха была такой же прекрасной, как тончайшие кружева, как изящный и хрупкий севрский фарфор, как нежный аромат отборного вина, как воздух венгерской осени, когда сквозь пламенеющие листья ощущается невыразимая сладость вечного упокоения.
Это можно передать только стихами. Такими, например, как стихотворение Верлена «Лунный свет» из его сборника «Галантные празднества»:
Твоя душа — волшебный край. И в ней
Кружатся маски в танце маскарада.
Но там, под одеянием гостей,
Шальное сердце празднику не радо.
Играют лютни. Миг любви воспет.
Блаженство правит балом в мире сказок.
Звенит минор, и зыбкий лунный свет
Овладевает светлой песней масок.
О, лунный свет! В ночи прекрасен он.
Недолговечны грустные обманы.
И в лунном свете ниспадает сон,
И плачут в парке старые фонтаны.
* * *
Бриллиантовое ожерелье исчезло, но слава о нем обошла всю Европу. Ни одно событие в течение десятилетий, предшествовавших революции, не имело такой прессы, как процесс об ожерелье. Современники инстинктивно почувствовали его роковую сущность.
Даже в далекой в ту пору от политики и забытой Богом Венгрии люди не остались равнодушными к этой истории. Отец-иезуит Дьёрдь Алайош Сердахей откликнулся на нее латинским стихотворением, в котором упомянул всех мифологических персонажей, в чьих судьбах ожерелья сыграли гибельную роль:
О ЗНАМЕНИТОМ ОЖЕРЕЛЬЕ, КОТОРОЕ ВЫЗВАЛО ВО ФРАНЦИИ ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС, ПОТРЯСШИЙ ЕВРОПУ
Кто ж фурия та? Не мегера ли, дочь вероломства,
Взяла ожерелие это у Стикса в заброшенном гроте?
Галлы, к нему прикасаться рукой опасайтесь!
Помните роль роковую, что сыграна им
В судьбах Семелы, Гармонии и Эрифилы, а также
В судьбе Иокасты. Фатальные беды сулит
Сие ожерелие смертным, и кто б ни владел им,
Любой поплатился тяжелым позором иль смертью.
Сам Аполлон отравил его ядом и недругам отдал…
Но пыл и слова отвращенья напрасно я трачу, как видно:
И в пурпурной мантии в Риме посланник Господний
Желает себе получить ожерелие это.
Но, преосвященство, зачем украшение женщин
Ты алчешь иметь? С ним познаешь напасти и беды,
Что женщин настигли, красой ожерелья прельщенных.
Кто с легкостью верит, что может понравиться людям,
Покуда собой восторгается, — будет несчастным.
Зачем же стремиться к проклятью и каре Господней?
Пусть лучше ла Мот отнесет ожерелие фуриям диким.
Самое яркое воплощение процесс об ожерелье обрел в произведениях современников — гениальных представителей немецкого классицизма. Как мы уже упоминали, Гёте посетил в Палермо семью Калиостро, после чего написал пьесу «Великий Копт», посвященную нашумевшему процессу. Это далеко не лучшее произведение великого веймарца, но он, случалось, писал и хуже. Действующие лица тут не имеют имен — только титулы, причем у некоторых из них титулы не столь высокие, как у их прототипов. Королева у Гёте стала герцогиней, кардинал — обычным епископом, правда Калиостро остался графом, а де ла Мот и его жена превратились в Маркиза и Маркизу. В пьесе, в отличие от реальности, все заканчивается благополучно: некий Риттер, влюбленный в девушку, прототипом которой является д’Олива, вовремя разоблачает обман (сразу после сцены в беседке Венеры), злоумышленники наказаны, добродетель торжествует. Граф, то есть Калиостро, вносит в пьесу элементы буффонады: Гёте сделал из него весьма комичную фигуру, проявив блестящее чувство юмора.
Шиллера же история Калиостро вдохновила на создание великолепного романа о призраках «Духовидец», к сожалению оставшегося незаконченным. Некоторые считают, что и знаменитая драма Шиллера «Дон Карлос» написана также под впечатлением нашумевшего процесса об ожерелье. И в самом деле, некоторые эпизоды пьесы вызывают в памяти уже известные нам события. Она начинается с того, что Дон Карлос томится страстным желанием побеседовать наедине с королевой. Им устраивают тайное свидание. Королева точно так же страдает в путах постылого придворного этикета, как и Мария Антуанетта. И дальнейшие события развиваются вокруг писем — украденных, добытых обратно, попавших не в те руки и так далее… Сплошные письма, как и в истории с ожерельем. А несчастный король, одинокий и вечно обуреваемый сомнениями: верна ли ему супруга? Вполне можно допустить, что прообразом этого персонажа послужил Людовик XVI. Такое предположение не лишено оснований. Шиллер довольно долго трудился над своей пьесой: первый акт написал в 1785 году, а завершил работу в 1787-м, то есть пьеса создавалась как раз в те годы, когда дело об ожерелье буквально не сходило со страниц европейских газет. Как известно, Шиллер всегда проявлял живейший интерес ко всем сенсационным уголовным процессам.
Читать дальше