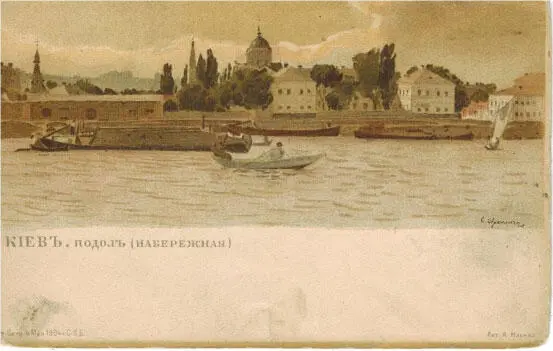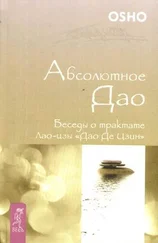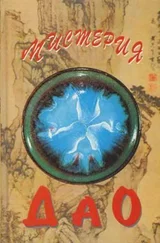Мира, где свободно отдают и принимают любовь, никаких клятв и обещаний «вечной верности», где само понятие верности истлело, а любовь превратилась в порхающую бабочку, сегодня одна любовь, а завтра – другая. Да и осталась ли у этих «поэтов» любовь вообще, может, лишь плотское влечение, завуалированное бренчащими «высокими» словесами.
Говорил же себе: «Бежать, бежать от нее прочь…»
Но я чувствовал лишь глубокую печаль, она ныла под сердцем, скулила брошенным щенком.
И еще жалость.
Жалость к Птушке. Ведь и она сейчас должна испытывать то же самое. Печаль, тоску, утрату, ненужность.
Вот мы с ней и стали равны. Одинаковы. Оказались в одной точке душевного пространства.
Прощай, Птушка. Клеточка открыта, лети. Свободна.
* * *
Жозефина приехала. Нет, я не видел ее, не встречал на вокзале, не ходил под ее окнами, не пытался «случайно» столкнуться на улице. Но я знаю, она в городе. В том своем письме, что разрушило мои надежды, она написала: «Думаю, тебе хватит такта не встречаться со мной». Хватит. Да и зачем. Все уже сказано. Но, боже мой, как же я хочу видеть ее, пусть издали, мельком, как тогда на катке, когда она впервые была мне явлена. Ее медовые глаза, разлетающиеся тонкие брови, эта ускользающая полуулыбка, они снятся мне каждую ночь.
Я болен ею. И не хочу выздоравливать.
В городе жарко. Настоящее пекло, ни облачка, ни ветерка. На улицах воздух густой, плотный, он прилипает к коже, пропитывает запахами липы, бензина, лошадиного навоза, кислого непропеченного хлеба.
На перекрестках я оглядываюсь на каждый взрев клаксона, вдруг это она мчится мимо.
А может быть, она написала, что мы не должны встречаться, лишь потому что боится, что я устрою ей сцену, скандал. Все-таки я должен ее увидеть. Понять, все ли у нее в порядке, в конце концов.
* * *
Сгорел Исаакиевский наплавной мост. Я в это время шел через Сенатскую, смотрю в небе – клубы черного дыму. Конечно, полюбопытничал, побежал смотреть. Толпа собралась немалая, шумят, галдят, кто-то свистит, лошади извозчиков испуганно всхрапывают. Те, кто был на мосту, когда загорелось, и перебежал сюда, на нашу сторону, возбужденно живописали подробности: как вспыхнуло на разводном пролете да как сразу занялись бочки с керосином, что приуготовлены для фонарей.
Пламя пожирало деревянную конструкцию, и вдруг охваченный огнем мост, отцепившись от берегов, поплыл по Неве.
Как погребальное судно викингов.
* * *
Арестован Митька Рубинштейн. Не рухнут ли акции Русско-Азиатского банка? Он один из крупнейших акционеров. Не хотелось бы. Я, хоть и мелкий, но тоже акционер. Обвинили, как принято, в шпионаже. Думаю, ерунда. Скорее всего, или попытка чья-то прибрать к рукам его капиталы, или очередной подкоп под Николая, всем известно, что Митька кредитует и Романовых, и Распутина, и правительство – всех.
Поймал себя на мысли, что это меня не особо волнует. Вот подумал, не упадут ли акции, а котировки смотреть в газету не полез. Упадут – не упадут, суета сует и томление духа.
* * *
Климент едет на фронт. Пришло письмо. Он и так, казалось бы, на фронте, но нет, Киев – это тыл, глубокий тыл, более двухсот верст до линии фронта. А теперь он едет непосредственно на фронт, в действующую армию, будет работать в дивизионном лазарете.
«Невозможно сохранить раненых, не оперируя их прямо там, на фронте. Когда их привозят сюда, в тыл, все уже потеряно, заражение, гангрена, только ампутация, потеря конечности, инвалидность…» Это из его письма мне, уверен, что ничего подобного Елене он не писал, пытается сохранить ее покой.
Каким-то образом ему удалось встретиться с его бывшим, я имею в виду в мирное время, начальником.
В Военно-медицинской академии Климент работал под началом Владимира Андреевича Оппеля. И вот, оказывается, тот нынче стал главным хирургом там, на фронте.
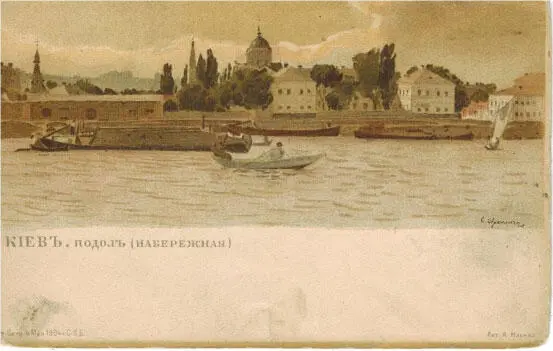
Я так и не понял из сумбурного письма брата, где и как он вновь пересекся с Оппелем, что-то по линии Красного Креста, где тот является куратором, но, видимо, именно он уговорил Климента, что работа непосредственно на передовой позволит ему быть более полезным.
«Более полезным» – это опять-таки цитата из его письма.
* * *
От одиночества, возможно, стал все чаще наведываться в дацан. Не на службу, собственно, а на разговоры с настоятелем. Пьем чай после хурала, разговариваем, спорим. Разговоры наши весьма забавны. Он говорит о буддизме, об учении Шакьямуни как о реальности, как о его собственной лобсановой личной жизни. Я препарирую его слова академическими тезисами, как ножом хирурга или, скорее, патологоанатома. И кажется мне, что Лобсан у меня выигрывает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу