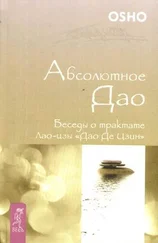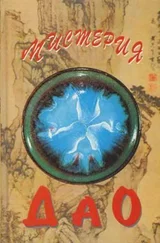Поначалу я был очень горд своими начерпанными у немецких академиков знаниями. Горд и предвзят. Пренебрежителен. Полагал себя всесторонне образованным в вопросах истории и течений буддизма. Собеседника же своего считал человеком темным, верующим во все эти легенды в силу происхождения и воспитания. Кем-то вроде наших деревенских бабок, верящих в Илью-Пророка, гремящего по небу в колеснице, в бесов, в банника и овинника. Только более начитанного про своих «банников и овинников».
Но раз от разу он начал ставить меня в тупик. Оказалось, что историю своей религии он знает намного шире, чем я. Ладно. Ведь он много лет провел в монастырях, изучая ее, а я только около полугода корпел над журналами в Публичке. Но и само тело этой самой религии подает он так, что буддизм кажется все более привлекательным для меня, человека, долгие годы считавшего себя атеистом. Нет, я не уверовал. Но постулаты о бесконечном перерождении мира, о последовательных воплощениях наших душ, поданные мне в интерпретации господина настоятеля, кажутся мне столь удобными, столь правильными, что ли. Стройными и легкими. Башня из слоновой кости.
Для меня это точно становится той самой башней Флобера, о стены которой разбиваются волны дерьма, захлестнувшие нашу жизнь.
* * *
Не выдержал. Вчера пошел к Птушке. Не мог более оставаться в неизвестности, как она. Готов был к тому, что она сразу попросит меня удалиться, а то и вовсе не впустит в дом. Часу в седьмом вечера вышел на улицу, вроде бы и не собирался к ней, пошел по Английской набережной, свернул в Замятин переулок, глянул на темные окна пустой Климентовой квартиры, все домочадцы еще на даче в Райволе. Ноги сами понесли меня на Почтамтскую. Но и тут я еще не собирался заходить к своей бывшей подруге. Но, увидев, что в окнах ее сквозь портьеры сочится жиденький свет, не удержался, стукнул в стекло два раза, а после паузы еще три. Так у нас было заведено ранее. Она выглянула в окно, посмотрела на меня и махнула приглашающе рукой.
Бледная, с ушедшими в глубокую тень глазами, закутанная в шаль с пунцовыми горячечными розами.
– Да ты не больна ли, Птушка? – я даже потянулся пощупать ей лоб, но рука, не дотянувшись, упала.
– Нет, Сей, все хорошо, я здорова. Только тошно как-то. Тоска. Но это ничего, пустяки, скоро занятия начнутся, буду работать. Мои девочки меня поддержат. И Ниночка, подруга моя, скоро в город вернется. Все хорошо, ты не беспокойся.
Предложила мне чаю. Я согласился, все-таки предлог, чтобы задержаться у нее. Разговор наш был странным, прерывистым, дырявым, мы оба старались не касаться больных тем. Получалось грустно. Рассказывала про свою жизнь с тетушкой в деревеньке Иванчино, прогулки, поездки к соседке Лидочке. Веселые истории. Только вдруг раз – и запнется. И я понимаю, что дальше должен быть этот ее поэт, этот «яркий светоч», обжегший ей крылья, сгубивший мое счастье, и говорить о нем она не хочет.
И в разговоре образуется брешь молчания. Она расползается, разъедает ткань рассказа, разъедает только что восстановившуюся меж нами доверительность. И мы опять чужие друг другу.
Я слушал ее и думал: ведь она сломалась. Сломалась, как стебель цветка в небрежной руке. И выглядела она увядшей: морщинки в уголках глаз, чего не было ранее, волосы ее теперь уже не те персиковые роскошные локоны, а соломенные поблекшие пряди, тусклый голос, изломанные линии похудевших рук. Ее, конечно, нужно лечить. Но не лекарствами. Ее нужно вернуть в ту атмосферу легкого веселья, музыки и солнца, в которой только и могут жить певчие птицы.
Я спросил, слышала ли она что-либо о «Привале комедиантов». Оказывается, нет. Возможно, он открылся во время ее отсутствия в городе.
– Собирайся, Птушка. Я отвезу тебя в одно место. Уверен, тебе понравится.
И мы поехали. На извозчике. Спросил, что с ее авто. Говорит, оставила его, когда уезжала, у Жано, да так и не собралась забрать. Куда на нем ездить? Она целыми днями сидит дома. Двигаться не охота. Апатия.
Прибыли мы к дому у Марсова поля как раз, когда двери «Приюта комедиантов» распахнулись, стала собираться публика. Птушка, увидев своих знакомцев, сразу повеселела. Представляла меня то одному, то другому, аттестуя своим самым близким другом. Мы уселись за столиком в уголке зала. Представление началось. Хорош или плох был «Шарф Коломбины», я судить не берусь. Возможно музыкальная пантомима – очень прогрессивный жанр, последнее слово в искусстве, мне, честно говоря, все равно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу