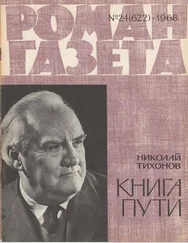Потом над молодой туркменской республикой распростерлась глубокая ночь первой колхозной весны. Постепенно затихали голоса людей и машин. Чайханщик сидел, качая сонной головой, у подножия самоварного идола. Люди в чайхане погружались в короткий, жаркий сон…
…Осенние цветы Ханькоу полны буйной силы. Особенно густых, тяжелых красок достигают хризантемы. Но те цветы, что я видел перед собой, были белые, или почти белые, или нежных желто-лимонных оттенков, потому что это были цветы грусти, цветы, принесенные в дар мертвым.
Я видел спокойное небо, с которого еще лилась на землю небогатая теплота ноябрьского полдня, видел деревья, еще сохранившие листву, слышал тишину вокруг, напряженную, нарочитую тишину сосредоточения многих людей, собравшихся в одно место и вставших в молчании перед невысокой решеткой, на площадке, где стояли горшки с белыми хризантемами и карликовыми туями и кипарисами.
Но я смотрел на белый мраморный столб, на котором распростерлись крылья с пятиконечной звездой и под ними выступало начало надписи: «Вечная слава…»
Мы прислонили громадное, искрящееся всеми красками цветистое колесо венка, окружность которого выходили темно-зеленые лопасти жестких лавровых листьев, к одной из широких каменных чаш перед столбом. Венок поддерживали гибкие бамбуковые палки, упиравшиеся в землю с двух сторон.
Этот белоснежный столб говорил о многом, почему молчание пришедших людей не было официальным. Много мыслей рождалось в эти минуты короткого сосредоточенного раздумья. Мы стояли на кладбище, где десятки лет хоронили европейцев, отчего оно носило название международного. В этой крепкой, сухой земле на берегу древней Янцзы лежал прах управителей бесчисленных концессий, владельцев факторий, инженеров, приехавших за высоким заработком, негоциантов, богатевших на китайском внутреннем рынке, банкиров, покупавших генералов и чиновников, всех тех, кто приезжал сюда вовсе не затем, чтобы остаться здесь навсегда, приезжал, чтобы увезти отсюда домой заработанные в колонии хорошие прибыли.
Белоснежный мраморный столб с крыльями и пятиугольной звездой стоял над останками советских летчиков-добровольцев — героев воздушных боев с японскими захватчиками.
Они погибли, защищая эту непокорную, свободолюбивую, трудную землю Ухана и эту широкую, могучую, необъятную Янцзы, по которой скользят бесчисленные корабли и плоты.
Церемония кончилась. Мы уходили тихо, не торопясь, не нарушая поспешностью наших шагов сдержанности, которую требовало это место печали и воспоминаний. Пожилой китаец, с молодыми, ясными глазами, сказал мне:
— Я видел сам воздушный бой двадцать девятого апреля тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Я видел, как с востока приближалось к городу много-много японских самолетов. Они летели, как хозяева нашего неба. Они ничего не опасались. Их тройки просто спешили выполнить задание, при котором ничто им не угрожает. И на земле было все тихо, и с земли они могли ничего не опасаться. И я, привыкший к состоянию бессильного гнева, с какой-то непонятной прикованностью не мог отвести глаз от японских самолетов, что продолжали лететь и лететь. И вдруг, как будто небо услышало мою молитву и мой гнев, из облаков сверкнули самолеты, которых я никогда раньше не видел. Я смотрел, как во сне. Клубились разорванные облака, или дымки рвущихся в небе шрапнелей, или взрывы японских самолетов — не знаю. Но я видел, как с дымными хвостами японские самолеты падали в реку и она ломала им хребты, после чего они тонули.
Я считал, в дикой радости я считал, сколько их падало. Я считал до десяти. Нет, они продолжали падать. Еще пять, еще три, еще два, еще один. Они прилетели, их было пятьдесят четыре; они улетали, их было только тридцать три. Двадцать один самолет был сбит этими чудесными воздушными воинами. Мы хотели знать, кто это, мы приветствовали живых, мы оплакивали мертвых, как своих братьев. И они были наши братья — эти советские люди, отдавшие свою жизнь за родной Китай, за наш Китай, за его свободу. Вы знаете, мы ежегодно ходим сюда, весь город, с благодарственными венками…
— Октябрь! Москва! Революция! Спасибо! — сказал старый китаец, крепко пожимая нам руки, подойдя к нам при выходе.
Тот, что говорил по-русски, пояснил: он хочет сказать, спасибо Москве за Октябрьскую революцию.
Я стоял на берегу Янцзы, взволнованный ее необъятным величием. Я вспомнил скромный поток: Кубань текла в мягких зеленых берегах. Я вспомнил тридцатый год, и чайхану на границе пустыни, и весенний сев первых туркменских колхозов, и вечер и отдых работников за пиалой бледного зеленого чая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу