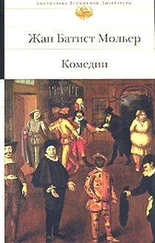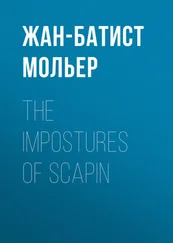Театральность комедий Мольера, осуществившая себя в синтезе буффонады и поэзии, имела своей основой жизненную правду — бытовую и психологическую, — отобранную и выраженную по строгим нормам рациональной эстетики. Собственно, в этом и было ядро органического для стиля Мольера реализма, и отсюда же протянутся нити, связывающие театральность мольеровских комедий с принципами современного нам синтетического театра.
Художественное богатство комедий Мольера огромно. На сцене середины XVII века в последний раз всеми своими красками сиял театр карнавала и площади, и в первый раз с подмостков была показана жизнь — семейная и общественная — в формах самой действительности. Такого рода единство свойственно только комедиям Мольера.
В прошлом — у Шекспира и Лопе де Вега — преобладала поэзия, она выражена была в героических или острокомедийных сюжетах, в душевном складе возвышенных или смешных персонажей, в патетике и острословии речи; поэзия была формой выражения правды.
Совсем по-другому будет строиться реалистическая драма; здесь возобладает правда: жизненно достоверные типические обстоятельства, правдиво очерченные характеры, выдержанная в прозаическом ключе речь — только так, через естественность, новая драма поднимется на свой высокий уровень, правда станет условием порождения поэзии.
И только у Мольера, повторяем, реализм и театральность, правда и поэзия равноправны: чем острей театральная форма комедий Мольера, тем сильней и ярче раскрыто их содержание.
Реформа Мольера свершила еще одно небывалое слияние: в единстве оказались гневная обличительная сатира и веселый жизнеутверждающий смех. И основа этого единства — оптимизм самого обличителя, непреклонная вера Мольера в нравственное здоровье народа, твердое знание того, что его комедии, показав современникам их недостатки и заставив людей смеяться над пороками общества, сделают их умней и лучше.
С этой верой Мольер прожил до последнего своего вздоха — и он умер фактически на сцене, через несколько часов после того, как снял с себя шутовской наряд «мнимого больного» Аргана, 17 февраля 1673 года.
Эта вера Мольера живет в его театре из века в век, живет как главный завет его гения.
Вот для какой великой цели Мольер совершил свою реформу. И посильной она была только гениальному художнику слова, одаренному еще и замечательным сценическим талантом, только «человеку театра» в самом полном и глубоком смысле этого слова.
Г. БОЯДЖИЕВ
Смешные жеманницы
Перевод Н. Яковлевой
Комедия в одном действии
{2}
[14]
Странное дело {3} : человека печатают без его согласия! По-моему, это высшая несправедливость; я готов простить любое другое насилие, только не это.
Я вовсе не собираюсь разыгрывать роль скромного автора и не за страх, а за совесть обливать презрением собственную комедию. Я бы ни с того ни с сего оскорбил весь Париж, обвинив его в том, что он аплодировал какой-то чепухе. Коль скоро публика является верховным судьей такого рода произведений, с моей стороны было бы дерзостью опорочить ее приговор. И будь я даже самого худшего мнения о своих Смешных жеманницах до появления их на сцене, теперь я должен был бы увериться в том, что они чего-нибудь да стоят, раз столько человек одновременно их похвалило. Но коль скоро значительною частью достоинств, найденных зрителями, моя комедия обязана мимике и интонациям актеров, я побоялся лишить ее этих украшений; я полагал, что успех, который она имела во время представления, достаточен и что им вполне можно удовлетвориться. Повторяю, я решил показывать ее только при свечах, чтобы не подавать кому-либо повода вспомнить известную пословицу {4} ; мне не хотелось, чтобы она перепорхнула из Бурбонского театра в галерею Суда. Все же я не смог этого избежать и, к вящему своему огорчению, увидел копию пьесы в руках книгопродавцев, а при ней — привилегию, добытую нахрапом. Я мог сколько душе угодно восклицать: «О времена! о нравы!» — мне ясно доказали, что я должен либо печататься, либо затеять тяжбу, а последнее зло еще горше первого. Итак, надо покориться судьбе и дать согласие на то, что все равно не преминули бы сделать и без моего позволения.
Боже милостивый! Сколь затруднителен выпуск книги в свет, и как неопытен автор, впервые печатающийся! Если бы мне дали хоть немного времени, я успел бы позаботиться о себе и принял бы все меры предосторожности, которые господа писатели (отныне мои собратья) принимают в подобных случаях. Не говоря уже о том, что в покровители своего творения я взял бы какого-нибудь вельможу, щедрость коего я попытался бы искусить цветистым посвящением, я бы еще потщился составить прекрасное и высокоученое предисловие: у меня нет недостатка в книгах, которые снабдили бы меня всем, что можно в ученом стиле сказать о трагедии и комедии, об этимологии их названий, об их происхождении, сущности и т. д. Я поговорил бы кой с кем из моих друзей, которые для препоручения публике моей пьесы не отказали бы мне ни во французских, ни в латинских стихотворениях. Есть у меня и такие, которые восхвалили бы меня по-гречески; ведь ни для кого не тайна, что греческая похвала в начале книги обладает чудодейственной силой. Но меня выпускают в свет, не дав мне времени оглядеться, и я даже не могу добиться права сказать несколько слов, почему я выбрал именно этот сюжет для своей комедии {5} . А между тем я хотел бы подчеркнуть, что она нигде не переступает границ сатиры пристойной и дозволенной; что наипохвальнейшие поступки подвергаются опасности подражания со стороны неумелых обезьян, которые вызывают смех; что скверные пародии на все, что есть самого совершенного, во все времена поставляли материал для комедии и что по той же причине истинно ученые и истинно мужественные люди еще ни разу не были в обиде на комедийного Доктора или Капитана, равно как судьи, князья и короли не оскорблялись, видя, как Тривелин {6} или другой лицедей выставляет в смешном виде судью, князя или короля. Точно так же истинные прециозницы напрасно вздумали бы обижаться, когда высмеивают их смешных и неловких подражательниц. Но, как я уже сказал, мне не дают вздохнуть, и г-н де Люин собирается немедля отдать меня в переплет. Ну, в добрый час, раз уж на то воля божья!
Читать дальше