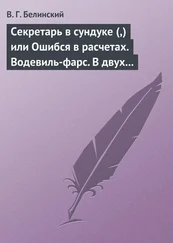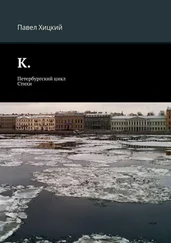Ника отказалась знакомиться с родителями Алекса; наотрез, когда он попросил об этом, она закрыла голову руками, а потом плеснула в него кофе из новой зеленой термокружки, подарка Алекса на восьмое марта. Теплый кофе стекал по густым бровям и дорогой трехдневной щетине, как ласковое прикосновение Никиных пальцев.
– Какая жена? Нет у тебя никакой жены, – сказала ему мать, поглаживая идеальные ногти, когда он в очередной раз пришел в квартиру на Пресне и стал рассказывать, что вот они с Никой сняли новое жилье, трешку, и теперь будут окончательно счастливы.
– Ну если так, то у меня и матери нет, – ответил Алекс.
Он встал из-за стола и вышел к лифту, хлопнув черной кожаной дверью. Алекс не разговаривал с матерью месяц, они помирились только благодаря отцу. Умер дядя Алексей, нужно было вместе прийти на похороны, и отец, практикующий адвокат, уговорил Алекса ввести принцип don’t ask don’t tell: ни слова о Нике, пока он встречается с родителями. Когда Ника узнала, что ей не придется иметь дело с отцом и матерью Алекса, она обняла его, уткнулась в шею и задышала нежно и мелко-мелко, как оказавшийся в безопасности зверек.
С нелюдимостью жены Алекс почти смирился. Но с Никой – несмотря на то, что он соглашался с ней всегда и во всем, – происходило что-то нездоровое. Она перестала есть мясо и начала просыпаться ровно в пять утра. Ее худоба усиливалась и стала бы совсем угрожающей, если бы не крепкие ноги – Ника любила ходить пешком – и с детства сохранившаяся атлетичность. На тонкой, как ветка, руке мерцал крепкий бицепс, но он выглядел случайным – кубистская деталь в реалистическом пейзаже. Ника не была низенькой, она доходила длинному Алексу до плеча, но стала выглядеть почти карликом; ему казалось, что он может обхватить ее руками вдоль, от коротких светлых волос до по-мужски больших желтых пяток.
Ника любила неподвижно сидеть и смотреть в никуда – скорее, она просто прислушивалась к себе или вдыхала запахи, но Алексу казалось, что она о чем-то постоянно думает. О чем-то неразрешенном, о невесомых материях и нездешних цветочных зарослях, о – как ностальгически говорила пиар-директор Лана с работы Алекса – Niemandsrose. Алекс не понимал до конца, что это выражение значит. Ника пила кофе четыре раза в день, по две огромные чашки подряд, и глядя, как она пересыпает кофейную гущу на на зеленое фарфоровое блюдо – Ника называла ее «скраб», Алекс ловил себя на том, что жена все время кажется спящей. Она спит, когда ходит, говорит с ним, даже когда сыто, в беспричинном блаженстве, улыбается. Речь Ники стала медленной и тягучей, осенний мед:
– Я пойдууу погуляяю, – говорила она.
– Куда?
– С подрууугами.
На это нечего было ответить. Ника уходила часто и надолго, Алекс не знал, где она. Ее подруг он тоже никогда не видел, хотя и помнил по рассказам, что их две. Больше Ника не вынесла бы. Одна – высокая блондинка, которую нужно сопровождать домой, когда напивается, другая – черноволосая, любит стрелять в тире на Тимирязевской. Еще Ника ходила на работу, но Алекс не имел понятия, что жена там делает. Она говорила, что в конструкторском бюро на зеленой ветке кругом секреты и тайны, о которых мешает рассказать допуск, а Алекс удивлялся, что на свете еще существуют конструкторские бюро. Кажется, Ника делала самолеты – она любила их и носила на блузке купленный в Измайлово значок с бипланом 30-х.
Алекс заметил, что Ника берет с собой на работу бумажные книги – все больше российские из XIX века. Ребенком Алекс не по своей воле читал, до того как пойти в цветмет и стать руководителем департамента, он учился на социолога, так что в целом Вронского от Левина отличал – но книжными идеями не заморачивался. Гоголь пугал, Толстой казался варварской чепухой. А Ника находила в них нечто важное, по утрам она брала толстые тома и нежно складывала их в маленькую – очень тяжелую – коричневую сумку. Алекс один раз попытался шутливо выяснить, на что Нике книги, но ответа не получил:
– Ника, ты же блондинка, зачем тебе романы?
– Я не блондиинка. У меня руусые.
В медленном отбытии Ники из плотского мира был один плюс. Она все больше походила на мальчика, и Алексу это, как ни странно, нравилось: короткая стрижка, почти невесомая грудь. Когда Ника сидела за столом в короткой майке, ему казалось, что она самый красивый человек в мире, лучше Кары Делевинь и Джиджи Хадид, и при этом в ней есть что-то нездешнее, ангельское.
Только Ника не любила в себе мальчишеское:
Читать дальше