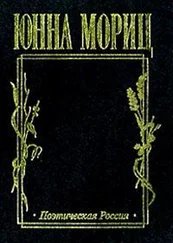Когда бы Он пошевелил перстом
для своего телесного спасения —
остался б магом, но не стал Христом
и не объял бы Тайну Воскресения.
О фокусе мечтал Искариот!..
О низости публичного показа
доступных для желудка и для глаза
чудес, увеселяющих народ.
Гвоздями он прибил сей рабский путь
к Его запястьям, над землей простертым!
Но маг Исус предстал Иуде мертвым,
а Бог воскрес — ив этом жертвы суть.
И в этом суть иудина греха,
взыскующего магии от Бога
и доказательств, коих всюду много,
что есть над нами тайные верха.
Только в миг содроганья, когда, спотыкаясь о мраки,
заплетается речь, волоча одинокое тело
по горам и лесам, сквозь ущелья, кусты и овраги —
к пустоте, где последней ступенькой во льду затвердело
соскользанье в ничто, в никуда, в потаенную прорубь,
в прорву,
в пропасть,
в провал,
в промежуток надежды и взлета,
в эту прорезь для всхлипа, для ветви, с которою голубь
сросся вестью благой, в этот клюв, где лазурь, позолота
не зазубрены кистью и ластятся клекотом, стоном,
сладкой мякотью слез, образующих лук, и папайю,
и огромную жалость, что, даже летя за балконом,
только в миг содроганья, о господи, я засыпаю!..
только падая ниже своих предыдущих рождений,
инфузорий из памяти мглистой, слоистой, текучей,—
вниз лицом и, зарывшись на дно, где трава сновидений...
только там обретается жизнь как единственный случай.
К своей благодати
нельзя принуждати...
Из всех положений
(земля ему пухом!)
Ван-Гогу блаженней
с отрезанным ухом.
Ни перса с гаремом,
ни Ромула с Ремом —
нельзя принуждати,
ни чью-нибудь душу,
ни море, ни сушу
к своей благодати.
Ни мужа, ни сына,
ни друга, ни брата,
ни кума, ни свата
нельзя принуждати
к своей благодати —
это чревато!..
Не помню имени. Когда — не помню — где?..
Мучительная пантомима.
Но мускулы, которые в воде
неутомимо
дрожащую раскатывают ткань
зеркальных отражений, —
во мне сработали!.. И, хрустнув, как стакан,
распалось вещество,
(с которым жить блаженней!)
беспамятства, забвенья вещество —
за ним ужасное клубится.
Я вспомнила — когда и где... И что с того?!
Передо мной трамвай. Трамвай-убийца,
суставчатый, запущенный с горы,
науськанный на запах мысли,
он гнался и давил, он из любой дыры
выслеживал, его колеса перегрызли
так много человечины, что спрос —
какой? с кого? с трамвая? с рельсы ржавой?
с дуги? руля? рубильника? с колес,
раскрученных великою державой?
Я назвала тебя... И что теперь?
За всех раздавленных —
научно углубиться
в твои колесики, косящие на дверь?..
в колесики твои, трамвай-убийца,
по всем законам неподсудный зверь?
За окнами катится липовый пух,
тучи точат ножи.
Речь говорящий — как тесто, распух,
играя дрожжами лжи.
Голенький, с луком тугим божок
целится с потолка.
Кто-то вздремнул и диван прожег
окурком «Явы» или «Дымка»,—
любопытные приоткрывают дверь,
своей участи чуя запах.
На них председатель рычит, как зверь,
стоящий на задних лапах.
Председатель ключом по графину бряк-бряк,
дно — навыворот, летит оскольчик.
Вышла голая вода из графина:
— Дурак,
купи себе колокольчик!
Любил Котлов сидеть в котельной,
пары поддерживать в котле,
рассказы в папочке отдельной
читать, блаженствуя в тепле.
Там были острые детали
и много смелой колбасы —
в те дни крамолою считали
писать про брови и усы,—
маразм крепчал, как тот мороз,
боялись правды, как заразы,
когда соленые рассказы
Котлов в котельную принес.
Их сочинил один приятель,
ему открыли светофор —
и заключил один издатель
с ним настоящий договор!
Да, мой приятель и Котлова
рассказы эти сочинил
без хохотанья удалого
и симпатических чернил,—
что было ново для тогда!
И, в общем, автор вышел с рыбкой!
Барахтался в пучине хлипкой —
а вышел с рыбкой из пруда.
Читать дальше