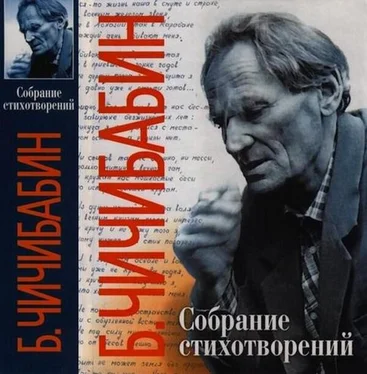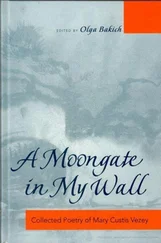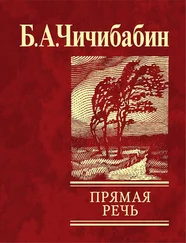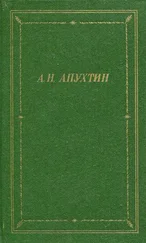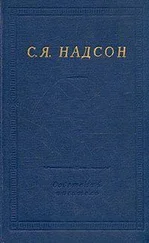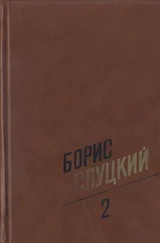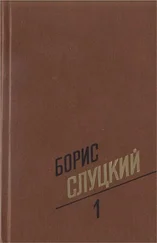Ну что, приятель? — думаю. — Держись.
Все трын-трава, пусть сердце перебесится.
А на душе — хоть в пропасть, хоть повеситься.
Ночь, никого — и лестница. Эх, жизнь!
Ни добрых слов, ни красного денька.
Все — ничего, водилась бы деньга.
Была б деньга — пожить бы хоть с полмесяца.
Найти б себя, Поверить бы другим.
Смертельно грустно, как там ни прикинь,
в вечерний час на сумеречной лестнице.
1960-е
Постель — костер, но жар ее священней:
на ней любить, на ней околевать,
на ней, чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.
У лжи ночной кто не бывал в ученье?
Мне все равно — тахта или кровать.
Но нет нигде звезды моей вечерней,
чтоб с ней глаза не стыдно открывать.
Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь черней, чем у Шекспира.
А есть бессонниц белых канитель.
На свете счастья — ровно кот наплакал,
и, ох, как часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.
1960-е
В воскресный день с весельем невезенье —
оно давно у нас отменено.
Наводит телек панику на семьи,
приелась вдрызг эротика в кино —
и, как всегда, все к водке сведено,
и уж нельзя взирать без омерзенья,
как мы проводим наши воскресенья.
Да сам-то я хоть чем-нибудь иной?
К чужим страну бездумчиво ревную.
Пойду вздремну, потом пойду в пивную.
Там воздух сиз от дыма и кощунств.
Грохочет рок. Ругают демократов.
Взял кружку впрок, печаль в нее упрятав,
и на пропащих девочек кошусь.
1990-е
О синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром, желтым и косым,
приходит время помнить и поститься
и чад ночей душе невыносим.
Смолкает свет, закатами косим.
Любви — не быть, и небу — не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.
Взывай к рассудку, никни от печали,
душа — красотка с зябкими плечами.
Давно ль была, как птица, весела?
Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные вечера.
1960-е
Хоть горевать о прошлом не годится,
а все ж скажу без лишней чепухи:
и я носил погоны пехотинца
и по тревоге прыгал в сапоги.
У снов солдатских вздохи глубоки.
Узнай, каков конец у богатырства, —
свистя душой, с высотки покатиться
и поползти за смертью в лопухи.
А в лопухах, служа червям кормежкой, —
лихой скелет с распахнутой гармошкой,
в ее лады запутался осот.
Тряся костьми и в хохоте ощерен,
в пустые дырки смотрит чей-то череп
и черным ртом похабщину несет.
1960-е
8. ДЕМОН ДЕМОКРАТИИ {287}
Я — демократ не на заморский лад
какой-то там ква-ква-адвокатуры.
Я — демократ и рыцарь диктатуры
в рабочей робе, красен и крылат.
Я — демократ и рад, когда корят
ее враги, корыстны и понуры,
но, свету сын, но любящему брат,
молюсь добру из-под звериной шкуры.
Себе ж на гибель гимн пою мечам,
вселившим страх в магнатов и мещан,
набитых злом, в невежестве чванливых.
Где Божий стан? Где войско палача?
Но, темный век по-свойски волоча,
сквозь строй врагов иду во тьму, свалив их.
1957, 1990-е
Дай заглянуть в глаза твои еще хоть.
Скажи хоть раз, что ты была не сном…
Под сапогами, черными, как деготь,
кричит заря в отчаянье смешном.
Святые спят. Их плачем не растрогать.
Перепились на пиршестве ночном.
Лишь чей-то возглас: «Господи, начнем!»
И детский крик. И паника. И похоть.
На небесах горит хорал кровавый.
Он сбрасывает любящих с кроватей.
Он рушит стены, грозен и коряв.
Кричит в ночи раздавленное детство,
и никуда от ужаса не деться,
пока гремит пылающий хорал.
1960-е
10. НЕ ВИЖУ, НЕ СЛЫШУ, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ {289}
Не вижу неба в петлях реактивных,
не вижу дымом застланного дня,
не вижу смерти в падающих ливнях,
ни матерей, что плачут у плетня.
Не слышу, как топочет солдатня,
гремят гробы, шевелятся отцы в них,
не слышу, как в рыданьях безотзывных
трясется мир и гибнет от огня.
Читать дальше