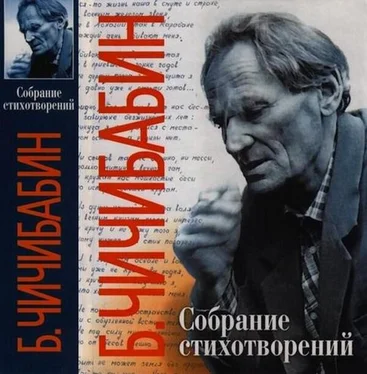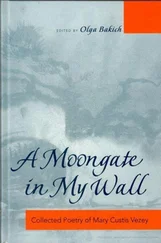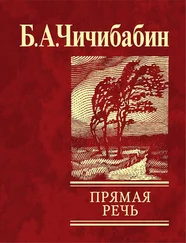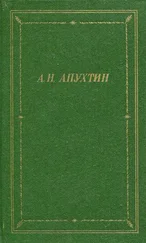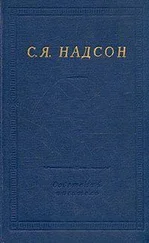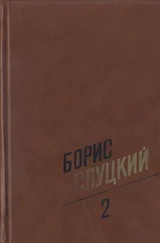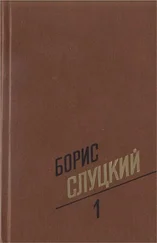Знать не хочу ни жалости, ни злобы,
знать не хочу, что есть шуты и снобы,
что боги врут в руках у палача.
Дремлю в хмелю, историю листаю, —
не вижу я, не слышу я, не знаю,
что до конца осталось полчаса.
1960-е
Не жди добра от множества бумаг.
В конце концов они своей лавиной
сомнут твой мир, задушат хваткой львиной,
и ложь и страх поселятся в умах.
Кто уцелеет, станет жить впотьмах,
без дум, без крыльев, нижней половиной,
забудет чудо тайны соловьиной
и средь бумаг состарится бедняк.
Он заслужил судьбу свою: вольно ж!
А ты не жди, а ты тревожь покой их.
Давно пора нагрянуть на вельмож,
на души их бумажные, у коих
рабочий класс не сходит с языка,
а на рабочих смотрят свысока.
1957, 1990-е
Мы — племя лишних в городе большом
с дворами злыми, с улицами старыми,
где люди глушат водку и боржом,
и врут в глаза, и трусят, как при Сталине.
Сто стукачей к нам сызмала приставлены,
казенный дом на тысячу персон.
А мы над всеми верами поржем.
А сами вовсе верить перестали мы.
Мы — племя лишних в этой жизни чертовой,
и мы со зла кричим: «А ну, еще давай!»
Нас давит век тяжелый, как булыжник.
В ракетных свистах да в разрывах атомных
мы — племя лишних, никому не надобных.
И мы плюем на все. Мы — племя лишних.
1960-е
Сидят и пьют Толстой с Хемингуэем —
тот бородач и этот бородач.
Им есть за что, покуда мы говеем,
теряя вкус тюремных передач.
Их стих застал в какой-то из кофеен,
доступной тем, кто волен и бродяч.
Они ушли от воздуха удач.
Их ратный пир огнем боев овеян.
За встречу пьют, о главном бормоча.
Беседе той не нужно толмача.
Ей движет хмель, который нам неведом.
В летах безбожных не оледенев,
им есть зачем побыть наедине,
бородачам, отверженцам, поэтам.
1960-е
14. СТАРИК-КЛАДОВЩИК {293}
Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе
весь погружен в певучий полусон.
Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.
Ему — в одышке, в оспе ли, в мещанстве —
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»
А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»
1960-е
На кой мне ляд проваливаться в ад?
Бродить по раю, грешный, не желаю.
Зато в селе всему, что помню, рад:
дымку печей, кудахтанью и лаю,
шатрам стогов и шаткому сараю,
где дышит хмель и ласточки шалят.
Страды крестьянской праведность и лад
в крови храню и совесть с ней сверяю.
До зорьки встать, быть к полдню молодцом,
разлечься на ночь к воздуху лицом,
охапку снов поклавши в изголовье.
Нет, сельский дух и в храме не изъян:
и красота корнями из крестьян,
ей и дерьмо коровье на здоровье.
1960-е
Над вечным морем свет сменила мгла.
Плывут валы, как птицы в белых перьях.
Всей красоты не разглядеть теперь их,
лишь пыль от них на камушки легла.
И женщина, пришедшая на берег,
в напевах волн стоит голым-гола,
как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,
и славят ночь ее колокола.
Две наготы. Два неба. Два набата.
Грозна душа седого шалуна,
и, вся его дыханием объята,
как синева, хмельна и солона,
стоит у моря женщина ночная,
сама себя не видя и не зная.
1960-е
Дуй, ветер, так, чтоб нам дышать невмочь,
греми в ушах, перед глазами черкай,
прочней вяжи моих морозов мощь
с ее весной, мучительной и зоркой.
Не бойся ветра, нежная, как ночь,
ни буйства страсти, сумрачной и горькой.
Мы крещены бедой и черствой коркой.
И только ветер смеет нам помочь.
У жизни есть на всякого указки.
Но мы вступаем в заговор цыганский.
Возврата нет. Все брошено в былом.
Читать дальше