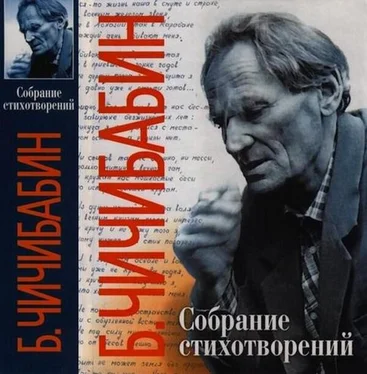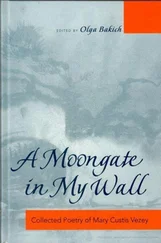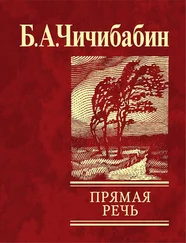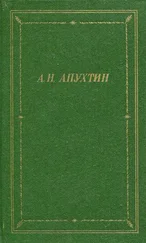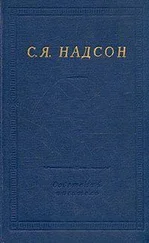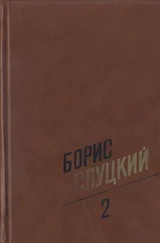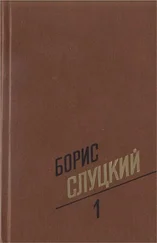Та же честь и та же чара
в хрустале и серебре
и берет свое начало
от крещения в Днепре.
Та же Русь в росе и сини,
слово Игорево в ней —
распарившейся России
первозданней и древней.
Для меня ж в любой из жизней,
что пред Богом не лгала,
нет злодея ненавистней
двухголового орла,
чей разбой, что от России
страх имперский нагнетал,
снова где-то водрузили, —
хорошо, что я не там!
Русский сроду и доныне,
с тем двухглавцем не в связи,
я живу на Украине,
правды пращурской вблизи.
Мне иных героев ближе
враг орлам, а людям друг,
капли крови не проливший
вольнолюбец Кармелюк.
Русский я душой и речью,
русский кровью и судьбой,
но и с Запорожской Сечью,
с волей желто-голубой.
Всем орлам смеется в усладь
слобожанский воробей.
Украина — тоже Русь ведь,
только все же потеплей.
С Русью Русь, а не поладят,
не сведут никак концы:
был один у братьев прадед,
спанталычились отцы.
Но во мне Оку и Сороть
не затмит разрыва дым
и Тараса не поссорить
с духом Пушкина святым.
По живому, братья, рубим —
до добра не дорастем,
что одно, а порознь любим,
под одним кряхтя крестом.
В час креста от злых орлов нас,
безголовых и с двумя,
да спасет единокровность,
жизнью в жилушках шумя!
<1992>
Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош {269} 269 «Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош…». Печ. по: ВСП. С. 398. Впервые: Время. — Харьков. — 1993. — 11 янв. Ст-е посвящено поэту, журналисту Ефиму Бершину, с которым Ч. познакомился в Коктебеле в сентябре 1992 г. Их беседа была опубликована в «Лит. газ.» 28 окт. 1992 г. под названием: «Тайна Бориса Чичибабина, которую он так и не открыл Ефиму Бершину». …и своя, а не Божия воля. — Аллюзия к любимой молитве Ч.: «Господи, как легко с Тобой, как тяжко без Тебя! Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!»
,
что не чую в них больше его я,
и достались в удел им гордыня и ложь
и своя, а не Божия воля.
Наших дней никакой не предвидел фантаст.
Как ни долог мучительный выдох,
мир от атомных бомб не погиб, так Бог даст,
не погибнет от слов самовитых.
Можно верстами на уши вешать лапшу,
строить храмы на выпитом кофе,
но стихи-то — я знаю, я сам их пишу —
возникают, как вздох на Голгофе.
Конструировать бреды компьютерных муз,
поступившись свободой и светом,
соблазняйся кто хочет, а я отмахнусь,
ибо дар мой еще не изведан.
Не умеющий делать из мухи слона,
как же суть свою в жизни сыщу-то,
где не царственен стыд, и печаль не славна,
и не прибыльны тайна и чудо?
Сочинитель, конечно, не вор и не тать —
грех иной, да и слава не та, мол, —
но возможно ль до старости бисер метать
и с ума не сойти от метафор?
1992
Оснежись, голова! Черт-те что в мировом чертеже! {270}
Если жизнь такова, что дышать уже нечем душе
и втемяшилась тьма болевая,
помоги мне, судьба, та, что сам для себя отковал,
чтоб у жаркого лба не звенел византийский комар,
костяным холодком повевая.
Что написано — стер, что стряслось — невозможно назвать.
В суматоху и сор, на кривой и немытый асфальт
я попал, как чудак из романа,
и живу, как дано, никого за печаль не виня.
Нищим стал я давно, нынче снова беда у меня —
Лиля руку в запястье сломала.
Жаль незрячих щенят, одурели в сиротстве совсем:
знай, свой закут чернят, издеваясь, как черти, над всем, —
мы ж, как люди, что любим, то белим.
За стихов канитель современник не даст ни гроша.
Есть в Крыму Коктебель, там была наша жизнь хороша —
сном развеялся Крым с Коктебелем.
В городах этажи взгромоздил над людьми идиот.
Где ж то детство души, что, казалось, вовек не пройдет?
Где ж то слово, что было в начале?
Чтоб не биться в сети, что наплел за искусом искус,
суждено ль нам взойти в обиталище утренних муз,
добывающих свет из печали?
Есть в Крыму Коктебель, в Коктебеле — Волошинский дом,
и опять, как теперь, мы к нему на веранду придем,
до конца свой клубок размотавши, —
там, органно звуча, в нас духовная радость цвела,
там сиял, как свеча, виноград посредине стола
и звенела походка Наташи.
Читать дальше